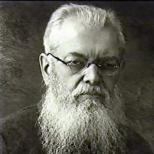Выдержки из воспоминаний летчика люфтваффе. Неистовый Гулаев. История самого эффективного лётчика Второй мировой войны Мемуары летчиков второй мировой читать онлайн
Хайнрих Виттгенштайн, как и многие его ровесники, рос горячим и безграничным патриотом Германии. Он твердо решил посвятить себя военной карьере, став офицером. Зная, насколько трудно тогда было вступить в Вермахт и тем более понимая, насколько слабо его здоровье, Хайнрих с этого момента подчинил всю свою жизнь и поведение достижению этой цели. Он начал систематически тренироваться и избегал всего, что хоть как-то могло сказаться на его самочувствии. Он не курил и не пил спиртного и вообще был чрезвычайно скромен в своих потребностях. Можно с уверенностью сказать, что он вел аскетический образ жизни. Хайнрих находил совершенно невыносимым, когда кто-нибудь интересовался его здоровьем. В одном из писем к матери он писал: «Я ненавижу, когда люди вокруг постоянно ведут себя так, как будто я слабый и больной».
В 1936 г. Хайнрих цу Сайн-Виттгенштайн начал свою воен-ную карьеру в составе 17-го Баварского рейтарского полка, расквартированного в Бамберге. В июне 1938 г. Виттгенштайну было присвоено звание лей-тенанта. Он был назначен в состав SchGr.40. Летая в качестве бортстрелка на Не-45 лейтенанта Вернера Рёлла во Фран-ции. В 1973 г. в ФРГ вышла книга Рёлла о Хайнрихе под названием «Цветы для князя Виттгенштайна» («Blumen fiir Prinz Wittgenstein»). В октябре 1938 года Витгенштейн принимал участие в оккупации Судетов.
Зимой 1938—39 г. Виттгенштайн был переведен в бомбар-дировочную авиацию и направлен в штабное звено KG254, сформированное 01.11.1938 г. во Фритцларе в качестве штурмана, сменив на этом посту Карла Теодора Хюлсхоффа. С 01.06.1944 г. по 25.03.1945 г. Хюлсхофф вспоминал: «Я видел, какие усилия он приклады-вал в течение нескольких следующих месяцев, чтобы как можно скорее получить квалификацию пилота. Я помню, насколько он был горд, когда сказал мне, что самостоятельно летал на Аг-66. В то время никто не мог сравниться с ним в желании летать».
Впервые же Хюлсхофф познакомился с Виттгенштайном на курсах лыжных инструкторов в Китцбюхеле в феврале—марте 1938 г. Он потом рассказывал о своих первых впе-чатлениях о нем: «Хайнрих был скромным и выдержанным офице-ром, исполнявшим свои обязанности с дисциплиной и доброй во-лей. На первый взгляд он казался немного мягким. Мне показалось, что ко многому он относился критически, но благодаря своему характеру был сдержанным, предпочитая выжидать и смотреть. Он никогда не высказывал вслух свое мнение, и только лишь ироничная улыбка иногда появлялась на его губах. Благодаря сво-ему тихому характеру он был очень популярен среди своих то-варищей». В составе KG54 Виттгенштайн участвовал сначала в боях во Франции, в том числе в битве за Англию, а затем на Восточном фронте. Всего в качестве пилота Ju-88 он совершил 150 боевых выле-тов.
Однако полеты на бомбардировщике не могли принести ему удовлетворения. Ханс Ринг, хорошо знавший Виттгенштайна, писал: «Он не мог примирить себя с бомбарди-ровщиком и всегда хотел перейти в истребительную авиацию, чтобы стать ночным летчиком-истребителем. В этом он видел реализацию своего понятия солдата в самом чистом виде. Быть не нападающим, а защитником!» Княгиня фон Виттгенш-тайн говорила: «Он перешел в ночные истребители потому, что понял, что сбрасываемые им бомбы несут страдания граждан-скому населению». Сам же Хайнрих признавался затем матери: «Ночной бой — самый трудный, но он также и высшая точка в искусстве полета».
В августе 1941 г. Виттгенштайн смог перевестись в ночную истребительную авиацию. Он был направлен в авиашколу в Ехтердингене в районе Штутгарта, обучение там должно было занять много времени, но ему помог случай. Осе-нью Хайнрих снова повстречался с Хюлсхоффом и по-просил его помочь побыстрее попасть в боевую эскадру. Хюлсхофф помог ему, и в январе 1942 г. тот был направлен в 11./NJG2. С первых же дней Виттгенштайн присту-пил к интенсивным тренировочным полетам, налаживая взаи-модействие с наземными операторами наведения. И если пос-ледние были удивлены и поражены неутомимым новичком, то его механики, вынужденные постоянно готовить Ju-88 к поле-там, были гораздо менее восторженными.
Свою первую победу Хайнрих одержал в ночь с 6 на 7 мая 1942 г., сбив английский «Бленхейм». К середине сентября на счету командира 9./NJG2 обер-лейтенанта Виттгенштайна было уже 12 побед, среди которых английский «Фулмар», сбитый им 27 июля. 2 октября 1942 г. он был награжден Рыцарским Крестом. К этому времени на его счету было уже 22 победы, которые он одержал в ходе 40 боевых вылетов.
Главной целью Виттгенштайна было стать лучшим пилотом ночной истребительной авиации. Он постоянно боролся за пер-вое место с Лентом и Штрейбом. Оберст Фальк потом вспо-минал о нем: «Виттгенштайн был очень способным пилотом, но он был чрезвычайно честолюбивым и большим индивидуалистом. Он не принадлежал к типу прирожденных командиров. Он не был ни учителем, ни воспитателем для своих подчиненных. Тем не менее он был выдающейся личностью и отличным боевым летчиком. Он имел какое-то шестое чувство — интуицию, которая давала ему возможность видеть, где находится противник. Это чувство было его личным радиолокатором. Кроме того, он был отличным воз-душным стрелком.
Однажды я был вызван в Берлин в министерство авиации. Как потом оказалось, одновременно со мной туда же выехал и Виттгенштайн, так как на следующий день Геринг должен был вручить ему Рыцарский Крест. Удивительным образом мы ока-зались в одном поезде, в одном вагоне и в одном купе. Я был рад такой счастливой возможности спокойно обсу-дить различные проблемы использования ночных истребителей. Виттгенштайн сильно нервничал, и руки его дрожали. В этот мо-мент его от Лента и Штрейба отделяли всего одна — две побе-ды. Как я понял, он очень опасался, что, пока он сидит в поезде и ничего не делает, они могут еще больше оторваться от него по числу побед. Эта мысль не давала ему покоя».
Бывший командир NJG2 оберст-лейтенант Хюлсхофф рас-сказывал о Виттгенштайне: «Однажды ночью англичане атако-вали все аэродромы ночных истребителей, находящиеся в Голлан-дии. Он взлетел среди взрывающихся бомб, без освещения, в полной темноте, прямо поперек аэродрома. Через час он совершил по-садку и был вне себя от гнева потому, что его пушки заело и по этой причине он сбил «только» два самолета».
Желание Виттгенштайна летать и одерживать новые побе-ды было неудержимым. Военный корреспондент Юрген Клаузен, совершивший вместе с Хайнрихом несколько боевых вылетов, рассказывал, как тот однажды по тревоге поднялся в воздух только в одном сапоге. Когда Виттгенштайн выпрыгивал из автомашины, что-бы подняться на борт своего самолета, уже готового к взлету, один его сапог за что-то зацепился. Не желая задерживаться ни секунды, он просто выдернул ногу из сапога и, заняв свое место в кабине, сразу же взлетел. Виттгенштайн вернулся об-ратно только через четыре часа, и все это время его нога нахо-дилась на педали рулей лишь в одном шелковом носке. Если учесть, что температура в кабине Ju-88 была отнюдь не ком-фортной, ведь не зря же экипажи надевали меховые комбине-зоны, то станет ясно, что выдержать подобное мог только че-ловек с железной волей, абсолютно владевший собой.
В декабре 1942 г. гауптман Виттгенштайн был назначен ко-мандиром IV./NJG5, сформированной в апреле 1943 г. на базе 2./NJG4. Слабое здоровье Виттгенштайна, несмотря на все его старания, все же нет-нет и давало о себе знать, и в феврале—марте 1943 г. он даже был вынужден ненадолго лечь в госпиталь.
В апреле Хайнрих прибыл на аэродром Инстенбург в Восточной Пруссии, где уже находились 10. и 12./NJG5, переброшенные туда еще в январе 1943 г. с задачей пресечь ночные налеты советских бомбардировщиков. В период с 16 апреля по 2 мая 1943 г. он сбил над Восточной Пруссией 4 ДБ-3 и один В-25. После этого он был отозван в Голландию и до 25 июня сбил 5 английских бомбардировщиков, причем 4 из них в течение одной ночи.

В конце июня 1943 г. 10. и 12./NJG5 во главе с Виттгенштайном были переброшены на аэродромы в Брянске и Орле и затем в июле приняли участие в боях в районе Курской дуги. В ночь с 24 на 25 июля в районе восточнее Орла Хайнрих сбил сразу 7 двухмоторных бомбардировщиков. 25 июля в сводке Главного командования Вермахта сообщалось: «Последней ночью князь цу Сайн-Виттгенштайн и его экипаж успешно сбили 7 русских самолетов. К настоящему моменту это самое большое число самолетов, сбитых в течение одной ночи». Всего же в районе Курска Виттгенштайн одержал 28 побед. В этот период он использовал для вылетов два Ju-88C-6 — «C9+AE» и «C9+DE». Оба самолета имели одинаковое число побед на киле и одинаковый камуфляж (все самолеты Виттгенштайна с октября 1942 г. имели один и тот же камуфляж: нижние поверхности фюзеляжа, плоскостей и мотогондол имели темно-серый, почти черный, цвет, а все верхние поверхности — светло-серую окраску с пятнами нейтрального серого цвета), но имели значительные конструктивные различия. «С9+АЕ» был одним из первых JU-88C-6, оснащенных т.н. Schrage Musik и РЛС FuG212. На «C9+DE» был установлен фонарь с Ju-88C-4, была усилена бронезащита кабины, и в носовой части смонтирована дополнительная 20-мм пушка MG151. На «C9+DE» Виттгенштайн в основном летал в ясные, лунные ночи и именно на нем он одержал большинство своих побед в июле 1943 г.
В ходе одной из своих инспекционных поездок на Восточный фронт Оберст Фальк посетил группу Виттгенштайна. Он вспоминал: «Я видел, как он в течение 15 минут сбил 3 советских самолета, но этого было недостаточно для него. Он постоянно боялся того, что пилоты на западе достигают большего числа побед, чем он здесь. Он был по-настоящему завистлив. Мне было очень нелегко работать с ним как с подчиненным из-за его невероятного честолюбия».
1 августа 1943 г. в Брянске была под командованием гауптмана Виттгенштайна сформирована новая I./NJG100, а 15 августа Хайнрих был назначен командиром II./NJG3 вместо майора Гюнтера Радуша. 31 августа 1943 г. после своей 64 победы Хайнрих был награжден Дубовыми Листьями к Рыцарскому Кресту (Nr.290). Из этих 64 побед 33 он одержал на Восточном фронте в районе Курска и в Восточной Пруссии. В декабре 1943 г. майор Виттгенштайн был переведен на должность командира II./NJG2.
Герберт Кюммиртц, летавший в конце войны в составе 10./NJG11 в качестве радиооператора на реактивном истребителе Ме-262В-1а/U1, вспоминал: «Еще несколько недель, и 1943 г. уйдет в прошлое. Князь Виттгенштайн, который был командиром группы, получил новое задание. Мы с нашим самолетом были переброшены на аэродром в Рехлине, где планировалось создать опытную часть ночных истребителей. Унтер-офицер Курт Матцуляйт, наш бортинженер и стрелок, и я были застигнуты врасплох. За несколько часов мы были оторваны от нашего круга — в Рехлине мы никого не знали и часто сидели совершенно одни. В это время Виттгенштайн часто ездил в Берлин и много времени проводил в министерстве авиации, обсуждая то одно, то другое.
Главным образом наша работа была в поддержании самолета в постоянной готовности к вылету. На аэродроме в Рехлине не было никаких подразделений ночных истребителей, и мне часто требовались часы, чтобы собрать по телефону все действующие на тот момент сведения для радиосвязи и навигации. В качестве временного жилища нам служил железнодорожный спальный вагон. В течение приблизительно трех недель, проведенных в Рехлине, мы совершили несколько вылетов в район Берлина, и я особенно помню два из них.
В здании пункта управления полетами в нашем распоряжении была маленькая комната. Когда приходило сообщение о налете вражеских бомбардировщиков, мы ожидали там приказа на возможный вылет. Однажды вечером все выглядело так, будто целью бомбардировщиков должен был стать Берлин. Виттгенштайн сообщил, что мы должны скоро вылететь. Взлетев, мы направились в юго-восточном направлении в сторону Берлина.
Расстояние от Рехлина до Берлина около сотни километров; женщина-комментатор на частоте связи немецких истребителей непрерывно передавала сведения о местоположении, курсе и высоте вражеских бомбардировщиков. Таким образом все наши истребители всегда точно ориентировались в ситуации в воздухе. Тем временем Берлин был окончательно идентифицирован как цель, и на частоте истребителей был передан приказ: «Все части к «Bur» (Кодовое название зоны «Konaja» вокруг Берлина).
Мы летели уже на той же самой высоте, что и бомбардировщики, приблизительно на 7000 м. Продолжая лететь в юго-восточном направлении, мы хотели вклиниться в поток бомбардировщиков. Мой радиолокатор был включен и осматривал воздушное пространство вокруг нас, насколько позволяла его дальность. Вскоре на экране я увидел первую цель и по внутренней связи сообщил пилоту: «Прямо по курсу, немного выше». Мы очень быстро догнали четырехмоторный бомбардировщик, как почти всегда, это был «Ланкастер». Виттгенштайн дал одну очередь из «Schrage Musik», и тот начал падать.
Впереди поперек ночного неба появились лучи прожекторов. Зенитный огонь стал более интенсивным, поскольку английские «патфиндеры» начали сбрасывать гирлянды осветительных бомб в качестве ориентира для приближающихся бомбардировщиков. На радаре я видел уже новую цель, расстояние до нее быстро сокращалось. По разнице в скорости было ясно, что это мог быть только бомбардировщик. Внезапно дистанция до него начала стремительно уменьшаться, при этом отметка цели пошла вниз. Мне хватило времени только, чтобы прокричать: «Вниз, вниз, он летит прямо на нас!» Через несколько мгновений прямо над нами на встречном курсе пронеслась большая тень. Мы почувствовали встречную воздушную волну, и самолет, возможно, другой «Ланкастер», исчез в темноте ночи позади нас. Мы трое сидели в своих креслах, как парализованные. Напряжение спало, когда Матцуляйт произнес вслух: «Это было довольно близко!» Еще раз удача улыбнулась нам.
Следующая цель. Подход к ней был почти завершен. Пилот и бортстрелок должны были вот-вот увидеть вражеский самолет, когда в правом двигателе началась сильная вибрация. Он стал терять обороты, и в заключение его винт вообще остановился. Виттгенштайн немедленно направил самолет вниз, чтобы сохранить скорость; одновременно он рулем сбалансировал оставшийся двигатель. Пока Хайнрих занимался нашей машиной, «Ланкастер» исчез в темноте. Возможно, мы могли достичь большего успеха той ночью. Однако теперь с одним двигателем мы имели только одну цель — вернуться в Рехлин.
Я вызвал наземный центр наведения и запросил курс. Левый двигатель работал, и мы медленно, теряя высоту, все же приближались к Рехлину. Я также сообщил на землю, что один двигатель остановился и что у нас только одна попытка для посадки. Каждый пилот знает, насколько трудна и опасна такая посадка в темноте. Виттгенштайн решил выполнить обычную посадку и выпустил шасси, хотя в подобных случаях это фактически было запрещено. Считалось, что, если заход на посадку будет неудачным, самолет с одним двигателем не сможет уйти на второй круг. На ставку были поставлены машина и жизнь экипажа. Однако Виттгенштайн был наш пилот и командир экипажа, и окончательное решение было за ним. Чтобы помочь нам приземлиться, с аэродрома начали запускать яркие сигнальные ракеты. Когда мы достигли аэродрома, то сначала облетели его по широкой дуге, чтобы выйти на нужный посадочный курс. Хайнрих был вынужден сделать это, так как самолет можно было разворачивать только влево. Разворот в сторону остановившегося двигателя легко мог привести к катастрофе. При подходе к земле мы ориентировались по сигналам радиомаяка, что тогда было довольно хорошей помощью. Посадка была точной, самолет коснулся посадочной полосы, и камень упал с наших сердец. Я и Курт были, естественно, полны благодарности нашему пилоту и чувствовали, что заработали короткую передышку.
Через несколько дней двигатель был заменен и самолет был готов к новым вылетам. Вражеские бомбардировщики снова появились в районе Берлина, и мы опять поднялись в воздух. Погода была хорошей, только на средних высотах был небольшой слой тумана, выше же было безоблачное небо. Я включил рацию на частоте истребителей «Рейха» (имеются в виду истребители, входившие в состав воздушного флота «Рейх»), и мы получили информацию об общей обстановке в воздухе. Все указывало на налет на столицу.
К этому моменту большие районы Берлина были тяжело повреждены, целые улицы превратились в песок. Невообразимое зрелище. Я однажды видел ночной налет с земли. Я стоял в толпе других людей на подземной станции метро, земля вздрагивала при каждом разрыве бомб, женщины и дети кричали, облака дыма и пыли проникали сквозь шахты. Любой, кто не испытывал страха и ужаса, должен бы иметь сердце из камня.
Мы достигли высоты подхода бомбардировщиков и, подобно «Ланкастерам», летели сквозь заградительный зенитный огонь над городом. Британские «патфиндеры», которые мы называли «церемониймейстерами», уже сбросили каскады огней. Над городом была картина, которую едва ли можно описать. Лучи прожекторов освещали слой тумана, висящего наверху, и он выглядел наподобие освещенного снизу матового стекла, от которого дальше вверх распространялась большая аура света. Теперь мы могли видеть бомбардировщики, почти как будто это был день. Уникальная картина!
Виттгенштайн направил наш «Юнкерс» слегка в сторону. Мы могли теперь видеть тех, кто в другое время был защищен темнотой ночи. В тот момент мы не знали, кого атаковать сначала, но принять решение так и не успели. Светящаяся трасса пролетела мимо нас, и наш командир бросил машину резко вниз. Когда мы спикировали, я смог увидеть непосредственно над нашими головами «Ланкастер». Стрелок его верхней башни стрелял в нас. К счастью, он прицелился не очень хорошо. Правда, мы получили несколько попаданий, но двигатели сохранили свои обороты и экипаж был невредим.
Мы скользнули в темноту так, чтобы не потерять «Ланкастер» из виду. Некоторое время мы летели параллельно бомбардировщику. Чем темнее становилось вокруг, тем ближе мы передвигались к нему. Поскольку свет от прожекторов и пожаров, вызванных британским налетом, остался позади нас, мы медленно, но верно приближались к четырехмоторному бомбардировщику. «Ланкастер» теперь летел над нами и не ожидал ничего опасного. Возможно, его экипаж был уже расслаблен мыслью о том, что они счастливо пережили налет и теперь на пути домой. Мы, захваченные волнением преследования, напряженно сидели в своей кабине, пристально глядя вверх. Они нас так и не обнаружили!
Виттгенштайн подвел наш Ju-88 еще ближе к огромной тени, нависающей над нами, и, тщательно прицелившись, открыл огонь из «Schrage Musik». 20-мм снаряды попали в крыло между двигателями и подожгли топливные баки. Мы немедленно отвернули в сторону, чтобы уйти от горящего «Ланкастера», который пролетел прежним курсом еще некоторое расстояние. Из нашей позиции мы не видели, смог ли экипаж выпрыгнуть наружу, во всяком случае, для этого имелось достаточное время. Бомбардировщик взорвался и, развалившись на несколько частей, упал на землю. Мы направились в сторону Рехлина и без проблем приземлились там».
Экспериментальная часть ночных истребителей в Рехлине так и не была сформирована, и Виттгенштайн получил новое назначение. 1 января 1944 г. он был назначен командиром всей NJG2. В ночь с 1 на 2 января 386 английских бомбардировщиков совершили очередной налет на Берлин, сбросив 1401 тонну бомб. Немецкие ночные истребители смогли сбить 28 самолетов - 6 над Северным морем и 22 в районе Берлина, т.е. 7,3% от общего числа участвовавших в налете. При этом на счету Виттгенштайна было сразу 6 бомбардировщиков. На следующую ночь Виттгенштайн сбил «Ланкастер» из 550 Sqdn. RAF.
В ночь с 20 на 21 января 1944 г. Хайнрих, сбив 3 «Ланкастера», наконец обошел по числу побед майора Лента и вышел на первое место среди асов ночной истребительной авиации. Однако этот вылет едва не закончился для него и его экипажа трагически, когда их Ju-88 получил тяжелые повреждения, столкнувшись со сбитым «Ланкастером».
Радиооператор Виттгенштайна Фридрих Остхаймер вспоминал:
«В полдень 20 января Курт Матцуляйт и я пошли к стоянке, где находился наш Ju-88. Мы отвечали за готовность самолета к вылету. Работа Курта состояла в том, чтобы осмотреть и проверить оба двигателя. Он запустил оба двигателя на максимальных оборотах, проверил давление топлива и масла. Проверка топливных баков тоже была частью его работы, они должны были быть заправлены доверху. Моей же работой была проверка навигационного и радиооборудования; естественно, я должен был убедиться, что радиолокационная станция функционирует. Отремонтировать всю эту аппаратуру в полете было уже невозможно и единственное, что я мог сделать, так это заменить плавкие предохранители.
По разным причинам мы не размещались вместе с остальными экипажами. В результате я каждый день должен был беспокоиться относительно прогноза погоды на ночь и собирать необходимые сведения для навигации и радиосвязи. Прогноз погоды на ночь с 20 на 21 января был не очень хорошим. Над Англией был т.н. Ruckseitenwetter — сектор холодной погоды, который предполагал редкую облачность и хорошую видимость. В то же время полеты над Голландией и Германией были сильно затруднены фронтом плохой погоды с очень низкой кромкой облаков и ограниченной видимостью. Это была идеальная погода для британских бомбардировщиков. Уже в течение некоторого времени RAF имели устройство H2S «Rotterdam», которое посылало радиоволны на землю, и в результате на экране прибора была видна местность, над которой пролетали самолеты. «Патфиндеры», летевшие впереди основной группы бомбардировщиков, были способны определить на «Роттердаме» цель для атаки и затем отметить ее каскадами огней. Чем хуже метеорологические условия были для нас, тем лучше они были для противника.
Три старших унтер-офицера из наземного персонала, я и Матцуляйт ждали в маленькой хижине рядом с ангаром, справа от взлетно-посадочной полосы. Снаружи шел дождь, это был конец января, и соответственно было холодно. Внутри же было тепло и удобно. В такой обстановке было лучше всего вообще не думать о возможном приказе взлететь. В ангаре стоял наш Ju-88. Баки были заправлены 3500 литрами авиационного бензина, все вооружение имело полный боекомплект. Фюзеляж, крылья и рули были тщательно протерты и отполированы.
Было еще не очень поздно, когда огромная радиолокационная станция «Wassermann», размещенная на острове в Северном море, засекла первые вражеские самолеты. Вскоре после этого с командного пункта поступил приказ «Sitzbereitschaft», т.е. экипажи должны были занять свои места в кабинах и ожидать команды на взлет. Я и Матцуляйт сразу же пошли к самолету, механики еще некоторое время оставались у телефона, но вскоре присоединились к нам. Виттгенштайн, наш пилот и командир NJG2, обычно находился на командном пункте, чтобы до последнего момента следить за обстановкой в воздухе. Оттуда он сообщил нам, что мы должны скоро взлететь. Мы подцепили наш стартер, который помог запустить оба двигателя, и самолет был выкачен из ангара.
Как только окончательно стало ясно, что первые английские самолеты взлетели и летят над английским побережьем к Северному морю, Виттгенштайн больше не мог оставаться в своем кресле. На своем автомобиле он промчался поперек взлетно-посадочной полосы, при помощи механиков надел летный комбинезон и быстро поднялся по трапу в самолет. Его первым приказом было: «Остхаймер, передайте, мы взлетаем немедленно!» С нашим позывным «R4-XM» я сообщил о запуске. Трап был убран, люк закрыт. Мы вырулили на старт, и, как только контроллер дал нам зеленый свет, двигатели взревели на полную мощность. Мы промчались вдоль тонкой линии ламп взлетно-посадочной полосы и секунды спустя погрузились в темноту ночи.

Набирая высоту, мы взяли курс на Хельголанд. Где-то над Северным морем мы должны были пересечь курс подхода вражеских бомбардировщиков. Вокруг была абсолютная чернота и только фосфоресцирующие приборы излучали слабый свет. На двигателях были установлены специальные пламегасители, чтобы мы могли оставаться невидимыми для противника, насколько возможно. В такой ситуации полет осуществлялся исключительно по приборам и единственной связью с землей были сообщения с командного пункта в Деелене.
Мы непрерывно получали сведения относительно положения, курса и высоты противника. По внутренней связи я передавал данные пилоту, чтобы он мог изменить курс, если ситуация потребовала бы этого.
Над Северным морем погода улучшилась. Теперь сплошной облачности уже не было. Наверху светилось несколько звезд, а в тысячах метров внизу мы могли рассмотреть поверхность моря. Это заставило меня с дрожью подумать о там, что нужно сделать, чтобы выжить в такой холодной воде. К счастью, полет оставлял слишком мало времени, чтобы размышлять о такой мрачной перспективе. Тем временем мы достигли высоты 7000 метров и фактически должны были быть уже очень близко к бомбардировщикам. Я щелкнул высоковольтным переключателем, включая экран. Поскольку мы были уже на большой высоте, я мог использовать свое оборудование, чтобы обнаруживать цели на расстоянии до семи километров, но вокруг все еще никого не было.
Внезапно перед нами справа появились первые лучи прожекторов, ощупывающие небо. Мы могли видеть вспышки разрывов зенитных снарядов. Теперь мы знали положение потока бомбардировщиков. Виттгенштайн слегка передвинул вперед рукоятки дросселей, и мы понеслись к нашей цели. Напряжение усиливалось, пульс становился все чаще. На моем поисковом радиолокаторе сначала неуверенно, но затем более четко замерцала первая цель. Я, естественно, немедленно доложил командиру о ее позиции и дальности. Небольшая коррекция курса — и цель точно перед нами в шести километрах.
Напряжение в кабине все усиливалось и усиливалось. Только тысяча метров отделяла нас от британского бомбардировщика. Мы переговаривались почти шепотом, хотя, конечно, противник в любом случае нас не мог слышать. Английские летчики совершенно не подозревали об опасности, угрожающей им. Через несколько секунд мы были ниже вражеской машины. Это был «Ланкастер», подобно огромной крестообразной тени парящий над нами. Наши нервы были натянуты до предела. Бортинженер зарядил пушки и включил прицел на крыше кабины. Наша скорость была согласована со скоростью «Ланкастера», который летел в 50 — 60 метрах над нами.
Виттгенштайн в своем прицеле видел крыло бомбардировщика. Я тоже смотрел наверх. Пилот очень мягко довернул нашу машину вправо и, как только в его прицеле появилось крыло между двумя двигателями, нажал на спуск пушек. Огненная трасса протянулась к бомбардировщику. Цепочка взрывов разорвала топливные баки, и крыло бомбардировщика мгновенно охватило неистовое пламя. После первого шока британский пилот бросил самолет вправо, и нам пришлось на большой скорости отворачивать, чтобы уйти из области огня. Спустя мгновение бомбардировщик, охваченный огнем, подобно комете, пролетел по широкой дуге к земле. Спустя несколько минут Матцуляйт доложил о том, что он разбился и о времени, когда это произошло. Оставалось только надеяться, что «Ланкастер» упал не в населенной области.
В течение нескольких минут мы летели вне потока бомбардировщиков. Здесь и там мы могли видеть горящие самолеты, падающие вниз, так что наши истребители имели некоторый успех. Вскоре на моем радаре появились две цели. Мы выбрали ближайшую из них. Все прошло почти так же, как и в первый раз, но из-за беспокойства противника и его постоянного перемещения мы имели некоторые трудности. Для собственной безопасности мы сделали подход к цели на более низкой высоте, чтобы избежать внезапного попадания в сектор обстрела его хвостового стрелка.
Так же, как и во время первой атаки, напряжение в кабине возрастало. Виттгенштайн осторожно приближался к «Ланкастеру». Немедленно после первой же очереди из «Schrdge Musik» «Ланкастер» загорелся. Еще мгновение он летел прежним курсом, но потом завалился в сторону и пошел вниз. Через некоторое время Матцуляйт снова доложил о его падении и взрыве. Успел ли кто-нибудь из английских летчиков выпрыгнуть на парашюте, мы не видели.
В течение короткого интервала времени мы увидели еще множество других горящих машин, падающих вниз. Это было ужасно. Но у меня не было времени, чтобы раздумывать, потому что на своем радаре я уже видел следующую цель. Виттгенштайн подошел довольно близко к «Ланкастеру». Очередь из «Schrdge Musik» проделала большое отверстие в его крыле, откуда начал хлестать огонь. На сей раз английский пилот реагировал очень необычно: он удержал горящий самолет под контролем и спикировал прямо на нас. Наш пилот тоже бросил наш Ju-88 в пике, но горящий монстр приближался все ближе и ближе и уже был прямо над нашей кабиной. У меня была только одна мысль: «Мы получили это!!» Тяжелый удар сотряс наш самолет, князь потерял управление над машиной, и мы, вращаясь, начали падать в темноту. Если бы мы не были пристегнуты, то нас, конечно бы, выбросило из кабины. Мы пролетели приблизительно 3000 метров прежде, чем Виттгенштайн смог снова взять машину под контроль и выровнять ее.
Как могли, мы в темноте осмотрелись вокруг, никто из нас не мог сказать, где мы находимся, кроме грубого предположения, что где-то между западом и юго-западом от Берлина. Теперь я стал самым важным человеком на борту. Сначала я попробовал азбукой Морзе на средних волнах выйти на контакт с несколькими аэродромами в том районе, где мы, возможно, были, но не получил никакого ответа. Наш командир был уже слегка рассержен. В своем справочнике я нашел длину волны «Flugsicherungshaupstelle, Koln» (Центр безопасности полетов в Кёльне). Я быстро установил с ним связь и получил требуемые сведения о нашем местоположении - Заафельд, приблизительно в 100 км юго-западнее Лейпцига. Переключив рацию на соответствующую частоту, я передал сигнал SOS и запросил о ближайшем аэродроме, открытом для ночной посадки. Станция в Эрфурте быстро подтвердила прием и дала мне курс подхода к аэродрому.
Погода была настолько плоха, насколько это могло быть. Нам сообщили, что нижняя кромка облаков на высоте 300 метров. Это было достаточно хорошо для посадки. Медленно снижаясь, мы вошли в облака. С земли передали: «Самолет над аэродромом». Мы повернули в указанном направлении и после разворота на 225" начали заходить на посадку. Выйдя из облаков, мы увидели прямо перед собой аэродром с включенными посадочными огнями. Мы были уже на посадочном курсе, шасси и закрылки были выпущены, высота все уменьшалась, когда самолет без всяких видимых причин вдруг начал заваливаться вправо. Виттгенштайн прибавил газ, и самолет сразу же выровнялся. Очевидно, правое крыло было повреждено падающим бомбардировщиком.
На высоте 800 метров мы смоделировали заход на посадку. Как только скорость снижалась, самолет начинал крениться на правое крыло. Естественно, в темноте мы не могли видеть, насколько серьезны повреждения. В подобной ситуации было только два выхода: или выпрыгнуть на парашютах, или попробовать приземлиться на более высокой скорости, чем обычно. Мы остановились на втором варианте, который был очень рискованным, и я радировал решение на землю. Мы сделали еще несколько кругов, чтобы дать время пожарным и санитарам занять свои позиции, и затем пошли на посадку.
Я нашел рычаг принудительного сброса фонаря кабины и ухватился за него обеими руками. Когда под нами промелькнули огни на краю аэродрома, я рванул рычаг на себя. Воздушный поток сорвал крышу кабины в один момент, подобно взрыву. Через мгновение - сильный удар. Это самолет съехал с взлетно-посадочной полосы на траву. После еще одного — двух жестких толчков самолет остановился, и я с облегчением расстегнул замки привязных ремней и парашюта. Выбравшись на крыло, я спрыгнул вниз и бросился на траву потому, что машина могла в любой момент взорваться. Ревя сигналами, примчались пожарные и санитарные машины, но, к счастью, все обошлось.
С помощью прожектора мы наконец смогли осмотреть повреждения. При столкновении с «Ланкастером» мы потеряли два метра правого крыла и одну из четырех лопастей правого винта, кроме того, англичанин оставил нам в фюзеляже за кабиной большую пробоину около метра. Мы должны были благодарить нашу счастливую звезду за то, что пережили это столкновение!
Нас накормили и дали поспать. На следующий день на другом самолете мы вернулись в Деелен в Голландию. Курт Матцуляйт и я очень хотели совершить путешествие обратно в комфорте поезда. Для нас это был бы своеобразный отдых, который мы заработали предыдущей ночью. Но никакой передышки не было. Виттгенштайн вышел на первое место среди ночных истребителей, и он хотел достигнуть большего. Таким образом мы совершили посадку в Деелене уже перед завтраком».

О дальнейших событиях 21 января 1944 г. Остхаймер рассказывал:
«После завтрака прошел едва час, и мы только достигли своей квартиры, когда зазвонил телефон. Я взял трубку, это был Виттгенштайн. Он сказал: «Идите с Матцуляйтом на стоянку и удостоверьтесь, что машина готова к вылету сегодня вечером». Единственный ответ, который был у меня: «Яволь, герр майор». Втайне мы надеялись, что пару дней, по крайней мере до прибытия нового самолета, нам не придется думать о смерти, войне и разрушениях.
После короткого отдыха мы пошли на стоянку. Как обычно, Матцуляйт проверил двигатели, давление топлива и масла, зажигание, топливо и боекомплект. Я проверил радиооборудование и радиолокаторы, насколько это возможно было сделать на земле. В заключение мы доложили командиру, что машина готова к бою.
Тем же вечером мы снова сидели в небольшом домике около ангара и ждали, что будет дальше. Опять шел дождь, и было холодно, в такую погоду хороший хозяин собаку не выгонит на улицу. Мы начинали думать, что «томми» тоже предпочтут остаться в тепле. Расстелив свой комбинезон, я лег в другой комнате. Я вспоминал, как несколько дней назад Виттгенштайн пригласил меня, Матцуляйта и старших унтер-офицеров из нашего наземного персонала на обед. В большом парке, непосредственно примыкавшем к нашему аэродрому в Деелене, Виттгенштайн подстрелил дикую овцу. Было жареное мясо и вино.
Я очень устал и почти сразу же заснул, но когда я проснулся, то заснуть снова уже не смог. В моей голове блуждали самые разные мысли. Главным образом они были вокруг моих друзей, с которыми мы несколько дней назад сидели здесь в готовности к вылету и кто после ночного вылета «пропал без вести». Вероятно, они никогда не будут снова среди нас. Я задавался вопросом, закончится ли когда-нибудь эта ужасная война. Матцуляйт вывел меня из задумчивости, крикнув: «Sitzbereitschaft!» Я сразу же встал, стряхнув с себя остатки сна и выбросив грустные мысли из головы.
Я взял штурманскую сумку и направился к самолету. Из своего опыта я знал, что Виттгенштайн всегда очень спешил подняться в воздух. Я помню ночь с 1 на 2 января 1944 г., когда я доложил о первой победе даже прежде, чем все самолеты нашей авиагруппы успели взлететь. Сегодня было то же самое. Я слушал радио, когда командир поднялся в кабину. «Все в порядке?» — был его первый вопрос. «Яволь, герр майор» — был мой ответ. Вслед за ним поднялся Матцуляйт, и один из механиков сразу же закрыл за ним люк. Теперь оставалось надеть шлемы, установить в рабочее положение ларингофоны и надеть кислородные маски. Последние требовались только на большой высоте, но мы использовали их уже на земле, так как считали, что это улучшает наше ночное зрение. Мы вырулили на линию старта, двигатели взревели, и после короткого разбега машина (Ju-88C-6 «4R+XM» W.Nr.750467) поднялась в воздух.
Мы старались не думать об опасностях, которые ждут нас в темноте впереди. По сообщениям с земли, бомбардировщики летели на высоте 8000 метров. На экране моего радара появился первый контакт. После небольшой коррекции курса мы вскоре увидели справа и чуть выше бомбардировщик. Столкновение прошлой ночью еще живо стояло перед нами, так что мы выполнили подход к нему на значительно более низкой высоте. Тень вражеского самолета медленно закрывала небо над нами, и по силуэту стало ясно, что это «Ланкастер». После единственной очереди из «Schrage Musik» его левое крыло быстро охватило пламя. Горящий «Ланкастер» сначала перешел в пике, а затем в штопор. Полностью загруженный бомбардировщик врезался в землю и раздался сильнейший взрыв. Это произошло между 22.00 и 22.05.
В этот момент на экране радара появилось сразу шесть отметок. Мы быстро выполнили два маневра по смене курса, и вскоре перед нами был другой «Ланкастер». После короткой очереди он сначала загорелся, а затем, перевернувшись через левое крыло, рухнул вниз. Вскоре я увидел вспышку огня на земле. После этого последовала серия мощных взрывов, возможно, это сдетонировали бомбы на его борту. На часах было 22.20. После небольшой паузы перед нами появился следующий «Ланкастер». Получив попадания, он загорелся и упал на землю. Это произошло где-то между 22.25 и 22.30, точнее сказать не могу. Вскоре мы обнаружили еще один четырехмоторный бомбардировщик. Уже после первой же нашей атаки он загорелся и упал вниз. Это произошло в 22.40.
На моем радаре появилась новая цель. После нескольких смен курса мы снова увидели и атаковали «Ланкастер». Из его фюзеляжа появилось пламя, но через несколько мгновений оно погасло, что заставило нас предпринять повторную атаку. Хайнрих как раз собирался открыть огонь, когда внутри нашего самолета неожиданно посыпались искры и раздался сильный взрыв. Левое крыло было охвачено пламенем, и самолет начал падать. Фонарь кабины оторвался от фюзеляжа и пролетел прямо над моей головой. По внутренней связи я услышал крик Виттгенштайна: «Наружу!». Я едва успел отсоединить шлемофон и кислородную маску, как поток воздуха буквально вырвал меня из кресла. Через несколько секунд мой парашют раскрылся, и приблизительно через 15 минут я приземлился восточнее Хохенгёхренер Дамм в районе Шенхаузена.
Приказав Остхаймеру и Матцуляйту покинуть самолет, князь, видимо, решил попытаться «дотянуть» до аэродрома в Стендале, который часто использовался для дозаправки или аварийных посадок ночных истребителей. Он смог пролететь только около 10 — 15 километров, в течение которых «Юнкерс» постоянно терял высоту. Виттгенштайн, вероятно, больше уже не мог удерживать самолет, и он дважды задел колесами землю. От второго удара стойки шасси сломались, самолет врезался в землю и загорелся. Обломки Ju-88 были разбросаны вокруг на большом расстоянии. Это произошло между местечками Хохенгёхренер и Клитц в округе Луберс.
Ранним утром 22 января один из местных крестьян позвонил по телефону доктору Герхарду Кайзеру, работавшему на близлежащем военном заводе «Deutsche Sprengchemie Klietz», и сказал, что ночью недалеко от них разбился самолет. Кайзер отправился на место катастрофы и приблизительно в двухстах метрах от места, где лежали обгоревшие обломки фюзеляжа, нашел безжизненное тело князя Виттгенштайна. 20 июля 1990 г. уже 80-летний доктор Кайзер записал по памяти:
«Насколько я помню, мне позвонили по телефону между пятью и шестью часами утра. Я сразу же встал, оделся и вышел из дому. Сам самолет я не видел. Множество обломков было разбросано вокруг, и я потратил полчаса прежде, чем нашел тело князя. Оно лежало среди деревьев к западу от дороги Хохенгёхренер — Клитц и не было изуродовано. На его лице были большие синяки, но никаких серьезных повреждений. Я не обнаружил никаких пулевых ранений или крови. Тогда гражданскому населению разрешалось осматривать военных, только если они подавали признаки жизни. В этом же случае было видно, что после смерти прошло уже несколько часов. По этой причине я застегнул его комбинезон и оставил покойного на том месте, где я его нашел. По моему мнению, он выпрыгнул из самолета, однако я не видел парашюта (Остхаймер считал, что Виттгенштайн выпрыгнул на парашюте, но, ударившись головой о крыло или стабилизатор, потерял сознание и не смог открыть его). Теперь это была работа для патологоанатомов Вермахта, которые должны были установить причину смерти князя. Я отправился в полицию Клитца и сообщил об увиденном. Потом мне рассказывали, что уже вскоре на месте происшествия появились солдаты. На следующий день в полдень, чтобы встретиться со мной, из Берлина приехал шведский посол. Он сказал, что он друг семьи Виттгенштайна, и попросил меня рассказать подробности его гибели, чтобы сообщить их его семье».
Свидетельство о смерти Виттгенштайна было составлено командиром санитарной эскадрильи Люфтваффе штаб-врачом доктором Петером. В нем говорилось, что причиной смерти были «переломы черепа в области темени и лица». Кто же именно сбил Ju-88 Виттгенштайна, точно не установлено. По одной версии это мог быть английский ночной истребитель «Москито» DZ303 из 131 Sqdn. RAF, который в 23.15 между Берлином и Магдебургом обстрелял немецкий ночной истребитель, однако пилот этого «Москито» сержант Снейп и радиооператор офицер Фоулер в своем донесении вовсе не утверждали, что сбили немецкий самолет. По другой версии - хвостовой бортстрелок с «Ланкастера» из 156 Sqdn. RAF, который после возвращения заявил, что в районе Магдебурга сбил немецкий ночной истребитель.
29 января Витгенштейн был похоронен на военном кладбище в Деелене. В 1948 г. останки майора Виттгенштайна были перезахоронены на немецком военном кладбище в Йссельстейне в Северной Голландии, где нашли свой последний приют 30 тысяч немецких солдат и офицеров.
В заключение надо отметить одну важную деталь, касающуюся возможной дальнейшей судьбы Виттгенштайна, если бы в ночь с 21 на 22 января он остался жив. Конечно, было бы неправильно утверждать, что он бы стал непосредственным и активным участником антигитлеровского Сопротивления, но, тем не менее, имеется ряд свидетельств, что к концу января 1944 г. майор уже критически относился к существовавшему режиму.
Его мать, вспоминая о том периоде, говорила: «Он вырос в Швейцарии, поэтому любил и идеализировал немецкий народ как бы издалека. Став членом «Гитлерюгенда», он видел в Гитлере того, кто верил в Германию. С этого времени он посвятил свою молодость, свое здоровье и все свои силы единственной цели — победе Германии. Однако постепенно он своим трезвым и критическим умом понял истинное положение вещей. В 1943 г. у него появились мысли об устранении Гитлера. Об этом же в своих «Берлинских дневниках» писала княжна Мария Вассильчикова. Она была близким другом Виттгенштайна и в годы войны работала в министерстве иностранных дел Германии. Однако эти ощущения были как бы вне его боевых вылетов. Хайнрих продолжал вести бой, стремясь догнать майора Лента по числу сбитых самолетов».
Осенью 1992 г., после объединения Восточной и Западной Германии, в районе Шенхаузена на месте гибели Виттгенштайна в торжественной обстановке был установлен мемориальный камень. На нем — лаконичная надпись «МайорХайнрих князь цу Сайн-Виттгенштайн. 14.8.1916 — 21.1.1944», над ней высечены изображение Железного Креста и надпись по-латыни «Один из многих» («Unus pro multis»).
Осенью 1940 года я прибыл для дальнейшего прохождения службы в 54 авиационный бомбардировочный полк, который стоял на аэродроме в четырёх километрах от г.Вильно. Велико было моё изумление, когда на другой день среди летчиков-истребителей, направлявшихся в столовую, я увидел своего брата Ивана. Не меньше обрадовался и он. Вечером, после ужина, встретились. Рассказам, расспросам не было конца. Ведь мы не виделись уже два года. После окончания Вязниковского аэроклуба в 1938 г. Иван был направлен в Чкаловскую военную школу пилотов. Окончил её, стал истребителем и некоторое время служил в Великих Луках, а оттуда их полк перелетел сюда. Город Вильно в сентябре 1939 года был освобождён от польской оккупации Красной армией и вскоре передан Литве. В октябре того же года с Прибалтийскими республиками, в том числе и с Литвой, СССР заключил договоры о взаимопомощи, по которым в этих республиках разместили ряд гарнизонов Красной Армии. Однако против наших гарнизонов, военнослужащих учинялись различные провокации вплоть до похищения и убийств наших военнослужащих. Иван рассказал, как в июне 1940 года аэродром блокировали литовские войска. На самолёты и аэродромные сооружения были направлены пулемёты, пушки. Личный состав спал под самолётами, готовый в любой момент дать отпор. Ивану со звеном было приказано взлететь, произвести разведку. С большим трудом удалось подавить желание проштурмовать противника. Через три дня блокада была снята. В июне 1940 г. прошли выборы, приведшие к власти представителей народа. Здесь вот, на аэродроме, и стоял полк, в котором служил брат. Летали они на истребителях "Чайка". Расскажу о себе. После окончания педучилища я, как и многие мои сверстники, попросил направить меня на работу в Сибирь, хотя меня оставляли работать в городе, даже чуть не заслали на учёбу в Ленинградскую военно-медицинскую академию. Через полтора года работы учителем я был призван в армию. К величайшей моей гордости, о чём я тут же отписал домой, я стал пулемётчиком N 1 на тачанке. Сбылась мечта - в детстве все после кинофильма "Чапаев" хотели стать пулемётчиками. Но не долго я оставался "чапаевцем". Вскоре нас, шестерых из полка, имевших среднее образование, направили в авиационную школу ШМАС в Калачинск возле Омска. После её окончания стал воздушным стрелком-радистом, звание - старшина. Направили на службу в г. Каунас в штаб авиадивизии. Всё здесь для нас казалось ново, интересно, а порой и дико. Провокации, о которых я уже писал, загнали нас на житьё в мужской монастырь. Два месяца мы там жили. Ограждён он был высокой (метров восемь) толстой кирпичной стеной. Одно из зданий освободили от монахов и передали нам. Под жильё отвели монашеские кельи - вполне благоустроенные комнаты. Кровать, стол, тумбочка, отдельно туалет, ванная, угол для моления. Винтовой лестницей с первого до четвёртого этажа соединялись залы-библиотеки (по 100 кв м примерно). Литература имелась во множестве, разная, в том числе иностранная, не говорю уж о католической. В одном крыле здания часть первого этажа занимала громадная зала, и здесь я впервые увидел орган, поиграл на нём. На втором этаже - физический кабинет. На третьем - химический, этажом выше - биологический. Все хорошо оборудованные. Наши техникумы по сравнению с этим - убожество. Вот так монахи! Как это далеко от того, что нам о них говорили в школе. По территории монастыря нам не очень разрешали ходить. Да и некогда было, так как с утра уезжали на аэродром. Но всё же наблюдали. Распорядок дня у монахов строгий. Обычно с 6 до 7 часов вечера они парами и в одиночку прогуливались по большому парку. Посреди него была крытая веранда с пинг-понгом (настольный теннис). Его я впервые видел. Однажды в субботу мы с другом пригласили девушек. Расположились на веранде, смеялись, играли. А это был как раз час вечерней прогулки и благочестивых размышлений служителей бога - и вдруг такой соблазн. Со следующего дня час прогулки перенесли на другое время, да и нам запретили приглашать девушек. Шестого ноября вообще произошла забавная история. Украшали здание к Октябрьскому празднику. Лозунги, флаги. Один из флагов прикрепили на балконе 4-го этажа к перилам. Вечером видим, монахи что-то с неудовольствием поглядывают на нашу наглядную агитацию. Минут через двадцать неторопливо прошествовал настоятель монастыря с двумя служками. Постоял. Поглядел. Направился в штаб дивизии. Минут через пять ушли. Вслед за ними выскакивает комиссар дивизии. Уставился на флаг на четвёртом этаже. Мы заинтересовались. Оказывается, если на флаг смотреть прямо, он как раз бесстыдно проектируется между ног Матки бозки Ченстоховской, изображение которой в рост человека располагалось на стене. Смех и грех. Приказано было немедленно передвинуть флаг на угол балкона. Монахи успокоились. Вот так мы познакомились с монашеской действительностью. А вскоре меня перевели на службу в Вильно в экипаж комиссара эскадрильи в 54 полк, где я и встретился с Иваном. Теперь мы служили с братом в одном месте. В середине июня 1941 г. шесть экипажей нашего полка получили задание перегнать самолёты СБ в авиационную школу, располагавшуюся в Тоцких лагерях под Чкаловым (мы стали получать новые самолеты АР-2 и летали уже на них). Я летел в экипаже лейтенанта Васи Кибалко, к которому был переведен на этот полёт. Оказывается, курсанты школы прошли курс теоретического обучения, но на боевых самолётах еще не летали, так как их не имелось в школе (лишь учебные "спарки"). Нетрудно представить радость курсантов, когда мы сели на их аэродроме. Нас качали, носили на руках. А мне досталось особо, так как среди встречавших я увидел (вернее они заметили меня раньше) Рассказова и других ребят, с которыми учился вместе в Горьковской школе г.Вязники. После окончания средней школы и аэроклуба в родном городе они попали сюда в авиашколу и "припухали" здесь в ожидании самолётов. Встреча у меня осталась в памяти, хотя этих ребят на фронте потом я не встречал (говорили в городе, что они все погибли). Любезные хозяева на радости вечером выставили нам бочку пива, припасённую с большим трудом заранее. Мы рассчитывали погулять здесь дня два-три, а я отсюда должен был ехать в Томск в пединститут для поступления на заочное обучение. Однако ночью неожиданно пришла телеграмма из полка, в которой командир категорически приказывал срочно возвратиться в Вильно. Делать нечего. Поехали. Уже в поездах встречали много военных, вызванных телеграммами в свои части. Догадок, самых фантастических, было много. В Вильно приехали вечером 21 июня. Добрались пешком до аэродрома. К великому удивлению, наших самолётов не оказалось (не считая нескольких неисправных). В проходной нас встретил дежурный. Он рассказал, что наш полк и полк Ивана перелетели днём на запасные полевые аэродромы, казарма опечатана, а нам можно переспать до утра в лагере. Если ночью будет автомашина на аэродром, разбудят. Пришли в ангар, набрали самолётных чехлов и вроде подходяще устроились с ночлегом - много ли надо военному. Так как на другой день было воскресенье, то все стали просить командира группы не торопиться завтра на аэродром, а отдохнуть денёк в городе. Легли что-то около полуночи. Вдруг прибежал дежурный и сообщил, что едет машина в полк. Последовала команда "Встать, садиться на машину". Увы, наши расчёты погулять в Вильно рассеялись, как мираж. Полевой аэродром располагался километрах в 15-18 от Вильно в Кивишках. Туда мы добрались часа в два утра. Стоял такой густой туман, что буквально в трёх шагах ничего не было видно. Нас развели по палаткам, но заснуть не удалось, так как прозвучал горн тревоги. Это было часа в три утра. Вскочили. Оделись. В тумане ничего не видно. С трудом нашли свой самолёт и техников. Подбегаем к стоянке самолёта. Там уже кипит работа. Включились и мы. Оружейник хлопотал у бомболюка, подвешивал боевые бомбы. Моторист помогал ему. Так как я был в экипаже комиссара эскадрильи Верховского, то спросил Кибалко, как мне определиться. Он посоветовал работать пока на его самолёте (потом меня так и оставила у него). Начал налаживать пулемёт, опробывать рацию. Лётчик и штурман убежали на КП. Помаленьку стал рассеиваться туман. Нас, приехавших из Чкалова, заметили. Начались расспросы. Вдруг вдали, на высоте около тысячи метров, показалась группа самолётов в направлении на Вильно. Конфигурация незнакома. Нас стали расспрашивать, не видели ли мы таких в тылу. Хотя мы и не видели, но стали "загибать" (а на это все авиаторы мастера), что очевидно это ИЛ -2 (под чехлами мы их видали в Саратове). На самом деле это были немецкие самолёты Ю-87, немножко похожие на наши штурмовики. Незнакомцы летели просто группой, почти не соблюдая строя. Задрав головы, мы любовались приличной скоростью самолётов. А так как в июне ожидались большие учения, то полагали, что они начались, и полёт незнакомых самолётов, наш перелет сюда, да и тревога являются подтверждением тому. Самолёты пролетели прямо над нами. Почему они нас не разбомбили, до сих пор для меня остается тайной. Или помешали остатки тумана, или их внимание было сосредоточено на г.Вильно и нашем стационарном аэродроме. Одним словом, через несколько минут они оказались над нами. Разошлись в круг, начали пикировать. Появился дым. Любопытная (если можно так выразиться) деталь: первыми бомбами, как нам потом рассказали, был разбит ангар, в котором мы располагались на ночлег. Мы любовались этой картиной, думая: падают учебные бомбы, но почему такой большой дым? От дальнейших недоуменных размышлений на тему о том, что происходит, отвлекла ракета с КП, означавшая команду: "Выруливай на вылет". Помню, что полевой аэродром был неважный, экипажи с него ещё не летали, и Вася Кибалко на взлёте еле успел оторвать самолет, задев за макушки елей. Так мы полетели на первое боевое задание. Это было часов в 5 утра. Полагая, что вылет учебный, я не надел парашют. Он прицеплялся на лямки спереди и очень мешал. Пусть валяется в кабине. И пулемёт не зарядил - с ним много возни потом. До войны нашему полку давалась на случай войны основная и запасная цели. И маршрут прорабатывался в соответствии с этим. Основной целью был железнодорожный узел г.Кёнигсберг. Считая вылет учебным, набираем высоту над аэродромом. А надо было набрать 6 тысяч метров. Набрали 2 тысячи. Кодом по радио запрашиваем землю подтвердить задание. Подтверждают. Набрали 4 тысячи. Запрашиваем опять. Подтверждают. Надо надевать кислородные маски. Набрали 6 тысяч, легли на маршрут. Не долетая до границы увидели на земле пожары, а кое-где и орудийную стрельбу. Стало ясно, что это настоящее боевое задание. Срочно надеваю парашют, заряжаю пулемёты. Подлетаем к Кёнигсбергу. Отбомбились, ложимся на обратный курс. Ни истребителей противника, ни зенитного огня не встретили. Немцы, видимо, не рассчитывали на такое "нахальство" с нашей стороны. Но вот появились немецкие истребители, уже в районе границы. Сходу они сбили несколько наших самолётов. Длинной очередью немцу удалось поджечь наш самолёт. Подлетев к нам метров на 20-30, он сделал крен и стала видна его улыбающаяся морда. Без особого прицеливания успеваю всадить очередь из пулемёта. К величайшей моей радости фашист загорелся и стал падать. Горели, падали и мы. Что делать? Надо прыгать. Вот когда пригодился парашют. Срываю колпак над кабиной. Подтягиваюсь, чтобы выпрыгнуть. Но самолёт падал беспорядочно, кувыркался и все попытки оказывались бесплодными, отбрасывало от одного борта к другому. Смотрю на высотомер. Стрелка его упорно показывает уменьшение высоты, 5000-4000 метров. А я никак не могу выбраться из горящего самолета. Так продолжалось примерно до 1000 метров. До сих пор перед моими глазами эта стрелка, упорно ползущая к нулю. Появилась даже мысль, что мне крышка. И вдруг я оказался в воздухе. Очевидно, меня при перевороте самолета выбросило из кабины. Не сразу сообразил, что делать. И уже совсем инстинктивно выдернул кольцо парашюта. Он раскрылся. Через 7-10 секунд я оказался висящим на дереве. Оказывается, всё это происходило над лесным массивом. Расстегнул лямки парашюта, подтянулся к стволу дерева и спрыгнул на землю. Осматриваюсь. Вблизи оказалась лесная дорога. Так как во время боя я потерял ориентировку, решил идти на восток. Прошел метров 300. Вдруг из-за дерева выскакивает человек с пистолетом в руке и предлагает поднять руки. Это оказался капитан Карабутов из нашего полка, тоже сбитый. Недоразумение разъяснилось. Идём вдвоем. К нам присоединились ещё несколько человек из нашего полка. 3атем пехотинцы. Они сообщили, что немцы уже где-то впереди нас. Стали идти осторожнее, искали исправную машину из числа брошенных на дороге. Нашли. Сажусь за руль. Карабутов рядом. Вот где пригодилась уменье управлять автомобилями, которые мы гоняли в свободное время по аэродрому. Бензина оказалось в баке маловато и мы решили подзаправиться. В брошенных машинах его не попадалось. Но вот видим на дереве стрелку-указатель на МТС. Повернули. Впереди показалась ограда и открытые ворота. Въезжаем. К нашему ужасу, метрах в 50 стоят немецкие танки. Танкисты стоят группой в стороне. Панически кручу баранку, разворачиваю машину и краем глаза вижу, как танкисты бросились к танкам. Выскочили за ворота и петляем по лесной дороге. Над машиной взрываются снаряды, посылаемые с танков. Но вреда нам они не причинили, да и танки по лесной дороге не могли нас догнать. Пронесло. Через 8-10 км пути догнали отступающую пехотную часть. Узнали, что севернее проходит шоссейная дорога, по ней и движутся немецкие войска; оттуда их танки и завернули в МТС. Поэтому нам и не встретились немцы на этой дороге. Через день мы добрались до аэродрома г.Двинска, куда должны были сесть после боевого вылета.
К февралю 1943 г. мы закончили переучивание, получили новые самолёты и улетели на фронт, на Курскую дугу. Я уже к этому времени стал флагманским стрелком-радистом первой эскадрильи. В марте-мае полк изредка совершал полёты на разведку, на бомбометание отдельных целей. Помогали партизанам. Полёты на помощь партизанам были связаны с большими трудностями. Летать приходилось далеко в тыл врага через аэродромы противника и укрепленные пункты. В один из дней было приказано слетать и сжечь несколько деревень, где были немецкие гарнизоны. Партизаны здесь были окружены и прорывались на юго-запад вот через эти деревни. Надо было расчистить им путь. Взяв в прикрытие девятку американских "Аэрокобр", долгое время летели вдоль линии фронта, привели их в Фатеж, где собирались взамен взять "Яков". "Аэрокобры" должны были здесь сесть и встретить нас уже на обратном пути. Однако тут произошло трагическое событие, которые иногда встречаются. В летевшей перед нами девятке из другого полка два самолёта врезались друг в друга на развороте, загорелись и упали. Проспавшие зенитчики сделали вывод, что их сбили истребители и открыли огонь по "аэрокобрам", приняв их за немцев. "Яки", ждавшие нас в стороне, увидели огонь зениток, горевшие самолёты на земле и тоже приняли "Аэрокобр" за "мессершмидтов" (они действительно похожи), якобы блокировавших аэродром, и ринулись на них в атаку. Так началась драка своих со своими. А мы тем временем делали один... два... круга в стороне, не понимая, что происходит. Несмотря на мои вызовы по радио, истребители прикрытия к нам не подходят. Пришлось запросить по радио кодом командира полка, как нам быть. Последовала команда идти на цель без прикрытия. Чуть позднее нас догнали два наших истребителя, но и те где-то отстали. Шли на цель под облаками на высоте 700-800 метров. Много тревожных минут пришлась пережить. За 90 километров, которые мы летели до цели за линией фронта, под нами проплыли несколько аэродромов противника, укрепленных пунктов. Но ни истребители, ни зенитки не остановили нас, видимо, боясь демаскировать себя. Километров за пять увидели среди лесного массива длинные огненные стрелы, указывающие на деревни, которые мы должны были разбомбить. Перестроились в пеленг, по звеньям, и сбросили бомбы. Развернулись. На месте опорных пунктов врага бушевало море огня. Так же спокойно прошёл и обратный путь к своему аэродрому. Сели сходу, так как у некоторых уже кончался бензин. Во время полётов мы видели, как много немцы сосредотачивали здесь авиации, зениток. И очень удивительна было нам, когда в этих условиях, желая дать отдохнуть отдельным ветеранам полка, нас шестерых послали отдохнуть на две недели в авиационный санаторий, расположенный в Смирновском ущелье под Саратовом. Добирались не без курьезов. Километрах в 8-10 от Курска находился аэродром, с которого мы на "Дугласе" должны были в 10 утра вылететь в Саратов. А до Курска добирались на поезде. Прибыли в середине дня на станцию Лев Толстой. Об этом я хочу рассказать не затем, чтобы кого-то позабавить, а чтоб хоть немного можно было представить, какая обстановка складывалась вблизи фронта, в тылу. Поезд встал. Стоим час, два. Никакого движения. Командир сходил к начальнику станции. Тот ничего утешительного не обещал. Всё пропускали эшелоны с военными грузами, и те не вставали здесь. А дело уже к вечеру. Тогда командир послал телеграмму комдиву. Указал, где остановились, и что нет надежды уехать до утра. Опаздываем на "Дуглас". Нельзя ли нас перебросить туда на У-2. Сесть самолет может на поле метрах в 600 севернее станции. Ответа не последовало, но вскоре над станцией стад кружить У-2 над тем местом, которое мы указали в телеграмме, и пошёл на посадку. В это время наш поезд проявил желание двинуться. Решив, что самолёт нас шестерых до ночи уже не успеет перебросить, в спешке командир говорит мне: "Прыгай (а мы ехали на открытой площадке), лети в Курск на У-2". Прыгнул уже на ходу поезда. Поспешаю к месту посадки У-2. 0сталось метров двести. К своему удивлению замечаю - там крутят пропеллер, чтобы завести мотор. Зачем? И почему там два человека? Выхватываю пистолет, стреляю, чтобы обратить на себя внимание. Обратили. Подбегаю к ним. Спрашивают, кто я такой. Говорю, что они за нами прилетели. У тех глаза на лоб. Объяснили, что они с почтой и никакого отношения к нам не имеют. Ужас! Объяснил им обстановку и попросил перебросить в Курск. Они отвечают, что и сами-то взлететь не могут, так как весенняя почва раскисла и надо ждать до утра, может, подмерзнет. Что делать? Бегу на станцию. Начальник не менее меня был обескуражен. Попросил его узнать по телефону, где состав, на котором едут наши. Узнал. Оказывается, он проехал километров пятнадцать и стоит на железнодорожной станции перед Курском. Попросили пригласить к телефону командира. Минут через 10-15 состоялся разговор. Объяснив командиру пренеприятную новость, я спросил, что делать. Узнал, что их состав еще часа два простоит. Мне было велено догонять их по шпалам пешочком. Не мудрствуя лукаво, решил не терять времени и трусцой двинулся в путь. Разные философские мысли приходили в голову, но отвлекало от них страшное желание курить. Я курил тогда много (а начал в первый день войны). К своему ужасу вспомнил, что у меня нет не только табака, но и никаких документов. Всё это осталось у командира. Протрусив километров десять (уже стемнело), увидел будку объездчика. Зашёл туда и попросил покурить. Посмотрев на меня подозрительно - а вид у меня был распалённый - объездчик дал мне махры на козью ножку. Закурив, я вроде с новыми силами двинулся дальше. Между тем объездчик тут же сообщил по телефону, что забегал диверсант, угрожал пистолетом, отобрал курево и скрылся в направлении Курска. Но там уже определили, что это за диверсант, и не придали значения "патриотическому сообщению". Прибегаю на станцию, весь путь проделав в рекордный срок - полтора часа. А поезд, оказывается, минут пять как ушёл. Измученный, лёг на диване в комнате дежурного. И только к утру, потеряв всякую надежду, приехал в Курск. А там ведь ещё до аэродрома надо добираться километров 8-10. Добрался, точнее - добежал. "Дуглас" уже готовился выруливать на взлёт. Ребята увидели меня, втащили еле живого в кабину. Первым делом: "Дайте покурить". Хорошо мы отдохнули под Саратовом.
Выполняя отдельные задания, полк готовился к большим боям. Готовилась знаменитая курская битва. Дня за 3-4 до начала битвы к нашему самолету прибежал посыльный и передал приказание срочно явиться в штаб полка. Только что на аэродром прилетел представитель истребительного полка, чтобы договориться о порядке сопровождения, прикрытия, огневого взаимодействия, связи. А мне, как я уже писал, приходилось этим заниматься. Прибежал в штаб. Он размещался в землянке. Осмотрелся. И вот уж неисповедимы пути господни. В штабе, в качестве представителя истребительного полка, находился мой брат. Объяснились. Он уже был заместителем командира полка. Не пришлось нам тогда много поговорить. После совещания Иван торопился на свой аэродром. Дело было к вечеру. Улетая, он, по просьбе командира нашего полка, выполнил над аэродромом несколько сложных фигур высшего пилотажа и с резким снижением скрылся. Среди лётного состава быстро распространился слух, что нас будет прикрывать 157 истребительный полк, что в нём порядочно Героев, что вот один из них прилетал и что это мой брат. А я ходил - нос кверху. С первого боевого вылета мы почувствовали разницу в организации прикрытия. Раньше истребители как-то жались к нам, хотя в ряде исключительных ситуаций так и должно быть. Но не всегда. Раньше нам обычно в сопровождение давали 6-8 истребителей. Теперь их стало четыре, и очень редко шесть. Обычно Иван по радио и на земле при встречах с нашим полком говорил, чтобы мы не боялись за хвост, а точнее бомбили. Действительно, за время совместных полетав с их полком мы от истребителей противника на потеряли ни одного самолёта. В период Курской битвы в иные дни, особенно первые, доводилось делать по два-три вылета. И это всё при ожесточённом противодействии истребителей и зениток противника. Зениток было так много, что диву потом на земле давались, как удалось унести ноги, да ещё и поразить цель. Почти после каждого вылета в самолёте насчитывалась масса пробоин от зенитных снарядов. Однажды, проверяя мой парашют, старшина обнаружил в нём осколок, пробивший до десяти слоев шелка и застрявший. Так парашют спас мне жизнь. Был и такой случай. Лежу у нижнего пулемёта, держусь за его ручки и ищу цель. Вдруг чувствую - какой-то удар в грудь. Оказывается, рядом с самолётом разорвался зенитный снаряд, осколок пробил борт, пролетел под правой рукой (они обе были вытянуты), попал в карабин парашюта, перебил его, чиркнул по груди и, попав в орден, вместе с ним пробил левый борт и вылетел. Вот какова была сила удара! А ордена мне потом так и не вернули. Нелегко мне приходилось как флагманскому стрелку-радисту. Надо держать связь с истребителями, с землей, внутри строя со стрелками других самолётов, организовывать огневой отпор истребителям противника. И самому стрелять. Вертишься, как белка в колесе. В эти дни стали наблюдаться случаи использования немцами эфира для дезинформации. Основную и запасную радиоволны я получал обычно утром. Строго ограничивалось их использование в первом вылете. Но немцам удавалось часам к 9-10 установить их и использовать в своих целях. 12 августа мы полетели бомбить железнодорожную станцию Хутор Михайловский. Вдруг по радио открытым текстом получаю команду возвращаться назад с бомбами. Доложил командиру. Тот велел запросить подтверждение паролем, но подтверждения не последовало. Тогда решили цель бомбить. Не раз бывали случаи, когда по радио приятным голосом нас приглашали садиться на немецкий аэродром, обещая райскую жизнь. Отвечали мы обычно словами, которые здесь писать неудобно. Летать мы начали 7 июля. Напряжение боев и потери боевых товарищей действовали угнетающе. В эти дни мы размещались в школе. В классах были построены нары и спали на них поэкипажно. Седьмого у нас сбили один экипаж. Потом второй, третий. Все они лежали на нарах подряд, один за другим (это, конечно, случайность). Но когда сбили третий, то экипаж четвёртого переместился на пол. Вообще-то в авиации примет много, и в них обычно верят. В первые дни боёв под Курском в воздухе наблюдалось известное равновесие в авиации. Однако черев 15-20 дней боев положение изменилось в нашу пользу. Вспоминается один из вылетов. Нам стали давать задания на свободные полёты. Конкретная цель не указывалась, давался район полёта и надо было цель искать самим. Как-то в конце июля нам дали прямоугольник, сторонами которого стали две шоссейные и железная дороги. Вот в нём мы и должны были искать цель. Видим - со стороны Орла на запад движется эшелон с бензоцистернами. Вот это удача! Заходим по ходу его движения, обстреливаем. Сначала лётчики из носовых пулемётов, затем стрелки из хвостовых. Раз зашли, два. Пули попадают в эшелон, а толку нет. Машинист то притормозит, то наберёт скорость. Решили начать на третьем заходе стрельбу пораньше. А в пулемётной кассете пули чередуются: обычная, трассирующая, разрывная, зажигательная, бронебойная. И вот только пули достигли земли, как вспыхнул огненный хвост, мгновенно догнал эшелон и перед нами тот взорвался. Еле успели отвернуть в сторону. Видимо пули в первых заходах, попадая в цистерны, гасли, так как в них еще и заканчивался газ. Но цистерны мы пробивали, бензин на землю вытекал, и нам совершенно случайно удалось его зажечь на земле на третьем заходе. Почему мы сразу не сообразили?
В районе города Лоева наши части форсировали сходу Днепр. На плацдарме завязалась ожесточенная битва. Немецкие самолёты остервенело бомбили переправы, чтобы сорвать пополнение, а вражеская артиллерия обстреливала прорвавшихся за Днепр. Нам было приказано подавить эту артиллерию. Перед одним из вылетов мы на земле договорились о том, что после сбрасывания бомб уходим от цели на свою территорию левым разворотом. Сообщили истребителям. Однако всё изменилось. Недаром говорят, гладко было на бумаге, да забыли про овраги. До нас немецкие позиции на правом берегу Днепра бомбили еще несколько групп. И все они уходили от цели с левым разворотом. Немцы это раскусили, зенитки пристрелялись и шедшие впереди нас группы несли потери от зениток. Плотность огня была очень велика. Всё это мы видели, подлетая к цели. Тогда командир нашей эскадрильи принял решение уходить с правым разворотом, о чем я и передал по радио сообщение истребителям. Бросили бомбы, сделали правый разворот и к своему ужасу увидели, что наши истребители идут влево. Мы остались одни. Пока делали разворот к линии фронта, нас перехватили истребители противника - и в большом количестве. Приготовились к бою, плотнее сомкнулись. Увидев, что мы без сопровождения, немцы решили использовать свое огромное преимущество, и не сбивая, посадить нас на свой аэродром. Взять живьём, так сказать. Стоило нам сделать доворот вправо, к линии фронта, как перед нашим курсом полетели снаряды и пули с их истребителей. Нас всячески отсекали влево. Дело пахло керосином. Как быть? В этот вылет нас сопровождали истребители из другого полка. Но когда еще подлетали к линии фронта, я услышал по радио голос Ивана, который командовал группой прикрытия над нашими переправами через Днепр (группы прикрытия не связаны с сопровождением конкретных штурмовиков или бомбардировщиков). После ранения Иван потерял часть слуха и теперь в воздухе с своем строю его чаще всего вызывали не паролем, а кличкой "глухой". Это я знал, как знали и многие лётчики фронта (а может быть, и немцы). И при подлёте к Днепру я понял, что Иван возглавляет группу прикрытия. Об этом я, кстати, сказал командиру, В трагическую минуту, когда нас окружили немцы, наш командир, прежде чем принять решение на бой, спросил меня, нельзя ли вызвать по радио Ивана. Не зная их пароля, я начал открытым текстом вызывать: "Глухой, глухой, я Григорий, как слышишь?". К счастью, Иван ответил сразу. Я доложил командиру и переключил на него приёмник и передатчик. С моей помощью командир кратко открытым текстом (за что потом был нам втык - ну а что делать?) объяснил обстановку. Узнав, где мы находимся, Иван посоветовал, чтоб мы и дальше, уменьшив скорость, летели в немецкий тыл и ждали его. Имея значительное преимущество в высоте, он повел группу вдогонку за нами и минут через пять по радио передал, что видит нас и начинает бой с фрицами. Мы воспользовались этим, резко увеличили скорость и сделали разворот к своей территории. Немцам уже стало не до нас.
Во время освобождения нашими войсками города Дмитровск-Орловский бомбили гитлеровскую колонну на шоссейной дороге. На земле взяли осколочные мелкие бомбы и теперь сбросили их на колонну. Фашистов с дороги как ветром сдуло. Побросали и машины. Тогда мы перестроились в пеленг по звеньям, сделали второй заход над рассеянной колонной и штурмовали врага огнём из пулемётов. Увлеклись настолько, что многие расстреляли все боеприпасы. Тут подвернулась пара немецких истребителей. Заходят нам в хвост, а отстреливаться нечем. В отчаянии хватаю ракетницу и стреляю по фашисту. Немецкий истребитель признал, видимо, ракету за новый вид оружия и отвалил в сторону. Недаром говорят: век живи, век учись. Хотя не я изобрел такой способ, применялся он и в других частях.
Были на фронте и такие вот дни. С одного из аэродромов в Польше летали на боевое задание. Утром, как обычно, не завтракали. Подкрепились шоколадом и всё. Завтрак на аэродром привезли, но ракета с командного пункта ("на вылет") "испортила" нам аппетит. Слетали. До цели было далеко и бензина осталось мало. Некоторые садились сходу. Садится Извеков, а у него зависли две бомбы внешней подвески. С ними садиться нельзя. Ему со старта дают красную ракету: "Уходи на второй круг". Ушёл. Вызывают по радио, чтобы решить, что делать. А радист его самолёта уже успел выключиться. Заходит на посадку опять, ему опять красную ракету. Все переживаем, чем кончится эта история. Наконец лётчик догадался включить радио и спросить, в чём дело, чего его гоняют, ведь бензина осталось еле-еле, и другие гневные слова он произносил. Ему объяснили и велели аварийно сбросить бомбы в большое озеро километрах в трёх от аэродрома. Извеков сбросил, бомбы там взорвались. Садиться ему пришлось уже поперёк старта - бензин кончился. Предупредили нас, что второго вылета, очевидно, не будет, можно ехать на обед. Поехали. Только расположились в столовой, вдруг с аэродрома ракеты: "Срочно на вылет". Побросали ложки, прыгаем в полуторку и гоним на аэродром. На беду, на крутом повороте открывается задний борт и человек восемь оказались на земле. Да так неудачно, что многих отправили в медсанбат. Почти все они оказались из разных экипажей. Командиру пришлось срочно перекраивать экипажи, а время идёт. Из штаба дивизии спрашивают, почему не взлетаем? Взлетели. Вылет прошел удачно. Но происшествия того дня на этом не закончились. Приезжаем вечером в столовую голодные. Повара подают нам уху, жареную рыбу. Откуда такое богатство, спрашиваем. Оказывается, технари успели разведать озеро, куда Извеков бросил две бомбы, а там оказалась масса глушёных судаков и другой рыбы. Они и набрали бочки две. После ухи нам подали котлеты. Их тоже съели. Ночью у некоторых, в том числе у меня, начались страшные рези в желудке. Нас срочно в медсанбат. Отравление. Сделали промывание. Оказалось, что повар эти котлеты сделал утром, на аэродром привозил, в обед нам предлагал, а съесть их не удавалось. Тогда он подсунул их вечером. Пришлось пролежать два дня. С тех пор я не только в армии, но и дома лет десять не мог есть котлеты. Как командир полка с комиссаром отдувались за этот день, остаётся только предполагать.
Перед Варшавской операцией образовалась пауза. Совершались только разведывательные полеты. Как-то командир полка сказал мне, что мог бы дать отпуск дней на семь для поездки на родину. А ещё раньше я узнал, что предполагается отпуск Ивану. Они стояли тогда от нашего аэродрома километрах в двадцати. Созвонились. Было решено, что я прилетаю на их аэродром на У-2 к вечеру. Переночую. А утром на поезде отправимся в Вязники. Товарищ перебросал меня на аэродром Ивана. Подлетели часов в пять вечера, было облачно, сплошные облака повисли над аэродромом на высоте 700-800 метров. Сели. Я выпрыгнул из самолета и пошёл к стоянкам (товарищ улетел обратно). Спросил лётчиков, где Иван (меня там знали хорошо). Сказали, что даёт провозные полёты молодым лётчикам и находится у посадочного Т. Иван в это время занимал должность заместителя командира полка по лётной части. В это время совершил посадку ЯК. Сел он плохо, промазал, да ещё вдобавок "скозлил" Когда он завернул к Т, то на крыло вскочил Иван. Пропеллер помаленьку крутится, а брат, размахивая руками, видимо, с возмущением, что-то внушает за неудачную посадку молодому лётчику. Тому надо было сделать еще один полёт по кругу. И в это время к ужасу всех нас, наблюдавших это внушение, из облаков прямо над Т под углом градусов 30 вывалялся немецкий самолет Ю-88. Так как он пикировал (точнее планировал) прямо на наш истребитель, то создалось впечатление, что он сейчас будет стрелять. Но дело обстояло, как мы потом узнали, совершенно не так. Немецкий самолёт-разведчик после выполнения задания возвращался на свой аэродром. Так как земля была закрыта облаками, то штурман и лётчик, решив, что линию фронта уже перелетели (на самом деле до нее оставалось 20-25 км), стали пробивать облака. Пробив, к своему удивлению увидели наш аэродром и стали вновь набирать высоту, чтобы скрыться за облаками, от которых они спустились метров на триста. Сначала Иван и лётчик за шумом мотора своего самолёта не слышали шума немецкой машины, и только заметив отчаянную жестикуляцию стартера, посмотрели вверх и увидали Ю-88. Выхватив лётчика за ворот из кабины (а брат физически был силён), вскочил сам и дал газ на взлет. Увидев разбегающегося истребителя, немец решил, что скрыться за облаками не успеет, стал удирать с принижением. Это оказалось роковой ошибкой. Километрах в восьми Иван настиг его и мы услышали, как заработали пушка и пулемёты. Немец тоже отстреливался. Тут же по радио Иван сообщил, что немец подбит и сел на живот на лесной поляне. Просит срочно выслать туда автоматчиков из БАО для захвата вражеского самолёта и лётчиков. Сам кружил над местом посадки противника. Много нас, любопытных, поехало туда. Я тоже пристроился на одной машине. Минут через 15 добрались до той поляны. Но только выскочили на опушку леса, как по нам с сидящего самолёта ударили из пулемёта. Это сразу поубавило нашу воинственность. Моментально соскочив с машины, мы укрылись за стволами деревьев и стали постёгивать из пистолетов по самолёту, до которого было метров сто. Ясно, что толку от нашей стрельбы никакого. Начинало темнеть. Пора предпринимать более решительные меры. Тут подъехали автоматчики. Открыв стрельбу по самолёту, они поползли в его сторону. И мы, осмелев, двинулись за ними. Здесь я первый и единственный раз испытал, как под огнём пулемёта ползти по-пластунски. Сначала из самолёта тоже отвечали из пулемёта, но вскоре он умолк. Автоматчики приблизились к самолёту, мы за ними. Что оказалось? Экипаж самолёта состоял из четырёх человек. Несколько снарядов и пулемётных очередей Ивана попали в цель. Лётчик был ранен, что вынудило его посадить самолёт. Штурман убит. Радист застрелился. Отстреливался стрелок - девушка, у неё не было ног по колено. И только когда автоматчики ранили её, она прекратила стрельбу. Помню, когда её вытаскивали из кабины, она пришла в сознание: кусалась, царапалась. Её погрузили в санитарную машину и увезли. Увезли и лётчика, который оставался в сознании. Этот пример в известной степени даёт некоторое представление о наших противниках. Иван уже давно улетел на аэродром, доложили командующему армией о посадке вражеского разведчика. Ко времени, когда мы вернулись на аэродром, командующий уже прилетел туда. Лётчика доставили в штаб полка, который располагался в небольшой избушке. Всем хотелось послушать допрос пленного лётчика, но практически размер избы не позволял удовлетворить наше любопытство. Наиболее нахрапистые притиснулись снаружи к открытым окнам, я в их числе. В штабе находились командующий Руденко, комполка, начальник штаба, Иван и переводчик. Из допроса выяснилось, что экипаж самолёта состоял из отца, двоих его сыновей и дочери. Воевали они ещё с 1940 года, с Франции. Лётчик - полковник, за заслуги награждён рыцарским крестом с дубовыми листьями. Сейчас они совершали разведывательный полёт по нашим железнодорожным узлам. После проявления фотоплёнки и её дешифровки, немецкая авиация утром должна была нанести удар. Раненый лётчик слабел и попросил сказать, кто же его, немецкого аса, сбил. Руденко велел Ивану расстегнуть куртку и показать награды. Сказал при этом, что сбил его не лапоть, а Герой Советского Союза. Немца увезли. Руденко спросил, чем будет заниматься Иван завтра. Тот ответил, что убывает в краткосрочный отпуск домой. Руденко пожелал ему счастливой встреч с родными, спросил, сколько ему дали отпуска, и узнав, что семь дней, добавил ещё семь своей властью. Услышав это, я был удручён. Иван меня уже давно заметил в окне. Увидев мои жесты, он догадался, в чём дело и попросил разрешения у уже вставшего Руденко обратиться к нему с просьбой. Тот, нахмурившись, разрешил. Иван сказал, что едет в отпуск не один, а с братом (то есть со мной). Командующий был удивлен, что в полку летают два брата. Ивана он знал уже давно; получив объяснение, что я летаю в бомбардировочном полку, который они прикрывают, спросил, чего же хочет Иван. Тот объяснил, что у брата, то есть у меня, отпуск всего семь дней, и что же получается теперь? Руденко заявил: "Хитёр ты, Иван. Но тебе я добавил отпуск за подвиг, а брату за что?" Однако подумав, он поручил командиру полка связаться с моим командиром, объяснить ему ситуацию, и если тот не возражает, пусть добавит дни и мне. Наш командир Хлебников не возражал против такого, очень приятного для меня, оборота.
Боевая работа продолжалась. 16 апреля началась Берлинская операция. Для нашего полка это был чёрный день. Пожалуй, за всю войну наш полк не вёл таких тяжелых боев. Мы совершили два вылета на танки и артпозиции немцев в районе Зееловских Высот, сбили шесть истребителей противника. Полк летал тремя группами, мы - во второй. И вот на встречном курсе около двадцати "фокке-вульфов" атаковали первую группу, а затем нашу. Из носовых пулемётов мы стрелять не могли, так как находились в створе с первой группой и могли поразить своих. Но когда немцы стали делать под нашим строем разворот, мне удалось поймать одного в прицел и длинной очередью зажечь его. От зенитки и истребителей мы сами в тот день потеряли три экипажа. Два человека со сбитых 16 апреля самолётов выпрыгнули с парашютом и потом вернулись в полк. Очень удачные вылеты совершили на г.Франкфурт-на-Одере и Потсдам. В Потсдаме разбили железнодорожный узел, а на повторном вылете - штаб немецкой дивизии. В этот день, пожалуй, мы нанесли самый ощутимый урон врагу: уничтожили штаб дивизии, убили более 200 солдат и офицеров, взорвали 37 вагонов, 29 зданий, большое количество разной техники. Всё это подтверждено фотоснимками, а потом и наземными частями. 25 апреля впервые полетели на Берлин. Берлин горел. Дым поднимался на высоту до трех километров и невозможно было что-либо рассмотреть на земле. Наша цель оказалась закрытой дымом и мы били по запасной (на каждый вылет давались основная и запасная цели) - железнодорожному узлу Потсдам. 28-30 апреля летали опять на Берлин. Били по вражескому аэродрому и Рейхстагу. Ветер усилился и, помнится, дым, как огромный лисий хвост, резко отклонился к северу, и наши цели стали видны. По Рейхстагу били с пикирования двумя 250 килограммовыми бомбами. Летали с ними наиболее опытные экипажи. Фотоснимки зарегистрировали прямое попадание в здание Рейхстага. Я потом с товарищами был у Рейхстага и расписался на нём. Но ради справедливости всегда говорю, что первый раз расписались на нём бомбой 30 апреля. Всем нам за этот вылет кроме Правительственных наград вручены именные часы. 3 мая состоялся торжественный митинг по случаю взятия Берлина, а 8-го мая - по случаю Победы в Великой Отечественной войне.
Из воспоминаний аса Люфтваффе Гюнтера Ралля
"Я стартовал в один из поздних августовских дней по тревоге на перехват самолёта-разведчика. Это был Пе-2, тянувший за собой инверсионный след на восток. Я хорошо его видел в 2000 метрах надо мной, когда сам летел на высоте 6000 метров. Глядя на противника, я внезапно замечаю боковым зрением какое-то шевеление на моей приборной панели и, опустив глаза, встречаю взгляд глаз-бусинок полевой мышки, глядящей на меня из отверстия, из которого буквально только что выкрутили неисправные бортовые часы. Я глубоко удивлён и в то же время встревожен. Весь вид крошечного создания, все волосинки которого шевелятся от вибраций работающего мотора, говорит о том, что от меня ждут объяснений по поводу шума, тряски, холода и разреженного воздуха, в котором так трудно дышать. На мне кислородная маска, которая не даёт увидеть мою улыбку, которой я приветствую гостя. Добро пожаловать на моё рабочее место и спасибо за участие в боевом вылете! К сожалению, я должен скоро атаковать того русского, возможно, он ответит мне тем же - тогда начнётся карусель, беспокоящая желудок и грохот оружия. Так что лучше тебе сейчас перейти под моё покровительство, тем более, что никто не знает, какой кабель или иная деталь под приборной доской придётся тебе по вкусу. Пока ты не перегрызла что-нибудь важное и не принесла нам обоим большие неприятности, сама того не желая...
Я протягиваю руку и пытаюсь схватить мышь, но она элегантно ускользает в последний момент.
Вражеского разведчика я так же не догнал.
После посадки в Гончаровке мои механики безрезультатно перерыли все закоулки фюзеляжа моего Мессершмитта в поисках недобровольного второго пилота. В конце концов, его записали, как без вести пропавшего."
Ганс-Ульрих Рудель, "Пилот "Штуки".
Мемуары самого результативного и орденоносного летчика, летавшего на пикирующих бомбардировщиках Ju-87. Предположительно, именно он потопил в Кронштадте в 1941-м линкор "Марат". Счет уничтоженной им бронетехники идет на сотни единиц.
Вильгельм Йонен, "Ночные эскадрильи Люфтваффе. Записки немецкого летчика".
Мемуары пилота ночного истребителя. Можно узнать много интересного о стратегических бомбардировках Германии союзниками и усилиях немецкой ПВО. В школах у нас о таком обычно умалчивают.
Зиглер Мано," Летчик-истребитель. Боевые операции Me-163".
Мемуары пилота, летавшего на единственном в своем роде ракетном истребителе. С уровнем аварийности этих самолетов, спасибо, что выжил да еще написал. Тоже ПВО и стратегические бомбардировки Германии. Очень интересно в техническом плане.
Адольф Галланд, "Первый и последний. Немецкие истребители на западном фронте. 1941-1945".
Немецкий ас и тактик. Начал карьеру еще во время гражданской войны в Испании. В дальнейшем, несмотря на звание командующего германской истребительной авиацией, летал на Западном фронте до конца Второй мировой. Кроме военных дарований отличался здравым и даже рыцарским нравом. Как гласит история, имел проблемы с Германом Герингом из-за личного отказа и запрета своим подчиненным расстреливать в воздухе выбросившихся с парашютом вражеских летчиков.
Ханс Юрген Отто
Сбили!Из воспоминаний летчика Люфтваффе, побывавшего с советском плену
Перевод с немецкого Е.П.Парфеновой.
Х.Ю. Отте родился в 1921 году в Амелшгхаузене (Нижняя Саксония, недалеко от Люнебурга). После окончания гимназии и получения аттестата зрелости он в октябре 1940 года поступил добровольцем в военно-воздушные силы Германии. Сначала был солдатом летно-учебного батальона в Шлезвиге, затем учился в школе военных летчиков близ Потсдама. В ноябре 1941 года Х.Ю.Отте получил удостоверение пилота. В течение нескольких месяцев, вплоть до лета 1942 года, он учился летать на пикирующем бомбардировщике.
1 августа 1942 года в чине лейтенанта Х.Ю.Отте был направлен на советско-германский фронт, его перевели в 77-ю эскадру пикирующих бомбардировщиков, дислоцировавшуюся в Крыму. Так началась его военная эпопея. В октябре 1942 - январе 1943 года он участвовал в боях за Сталинград и на Кавказе. В мае 1943-го эскадру перебросили в Харьков, а 2-го июня Х.Ю.Отте произвел свой последний боевой вылет - во время бомбардировки города Обоянъ в воздушном бою с советскими истреби-телями он был сбит, выбросился с парашютом и оказался в плену. Именно об этих событиях и идет речь в публикуемых ниже воспоминаниях. Их автору довелось побывать в нескольких лагерях военнопленных на территории СССР - в Тамбове, Суздале, Елабу-ге. Будучи «узником войны «, Х.Ю. Отте имел возможность познакомиться с деятельностью Национального Комитета «Свободная Германия».
Уже после окончания Второй мировой войны, в сентябре 1945 soda, его перевели в Казань, в рабочий лагерь «Силикатный завод». Здесь в феврале 1947 года он заболел двусторонним воспалением легких и вскоре был перемещен в лазарет лагеря военнопленных в Зеленодольске.
Летом 1947 года Х.Ю. Отте оказался в числе репатриируемых, 19 августа он прибыл во Фрапкфурт-на-Одере. Годы плена остались позади. Дальнейшая судьба Ханса Юргена уже не была связана ни с военной авиацией, ни с армией вообще - он избрал для себя педагогическое поприще. После окончания пединститута Х.Ю.Отте много лет работал учителем, затем директором школы. В 1984 году ушел на пенсию, В настоящее время живет в Германии, занимается общественной деятельностью.
Редакционная коллегия «Нового Часового» благодарна Хансу Юргену Отте, предоставившему рукопись своих воспоминаний и любезно согласившемуся познакомить российского читателя с ее фрагментом. Надеемся продолжить публикацию мемуаров Х.Ю. Отте в последующих номерах журнала.
Выражаем также искреннюю признательность Евгении Петровне Парфеновой, взявшей на себя труд перевести рукопись с немецкого на русский язык и подготовить ее к печати.
Верим в то, что публикация воспоминаний участников драматических событий полувековой давности, находившихся по разные стороны фронта, будет способствовать достижению благородной цели ~- возобладанию правды о величайшей трагедии человечества, каковой была Вторая мировая война.
Вместо предисловия - короткое введение
Природа, в которой рождается человек, в которой он произрастает и в которой он проводит свои детские и юношеские годы, наряду с другими факторами, имеет существенное влияние на его развитие. Кто мог бы оспорить, что имеются веские различия между горняком из Альп и \’рыбаком с побережья Северного моря, между «кельнским парнем» и тем, который своей Родиной называет остров Рюген.
Так и хайдовец, этот человек из Люнебургер Хайде, обладает особым своеобразием: он скорее молчалив и задумчив, чем болтлив, склонен скорее к статическому созерцанию, нежели к наблюдению постоянно меняющих друг друга сцен жизни, но одновременно он упорен в следовании однажды поставленной цели; упрям и энергичен, если речь идет о несправедливости, и, очевидно, иногда далеко перескакивает цель, а также чаще всего обладает сильной волей.
Возможно, мне досталось от всего этого много, во всяком случае - кое-что. Это было положено мне уже в мою люльку и в течение всей жизни оберегало от ненужных поворотов в моем жизненном пути.
Затем предки. Они являются, выражаясь поэтическим языком, источником соков жизни. Краеугольным камнем нашего бытия являются они, происхождением и потом воспитанием, на которых человек может строиться, если он хочет. И он должен хотеть!
Меня часто погоняли мои» желания. Периодически они заставляли меня выбирать направления, которые приводили к заблуждениям. Добрый случай затем часто спасал меня от безысходности. Но довольно философии. Я хочу рассказать о тех годах, которые прежде всего сформировали меня и все мое поколение.
Я родился в Хайдедорф Амелингхаузене, вырос в Люнебурге, в городе, который дает свое имя ландшафту. Мои родители - так называемого скромного происхождения. Дедушка с материнской стороны был ремесленником и многие годы до своей кончины бургомистром Амелингхаузена.
Родителям отца, имевшим восьмерых детей-иждивенце в, существенно труднее было, работая сельхозрабочими у более богатых крестьян, тяжелым трудом сколотить себе какое-нибудь состояние. Отцу моему в результате 12 лет военной службы удалось стать после Первой мировой войны служащим Рейхсбана (государственной железной дороги) - для деревенского парня, имевшего «только» деревенскую школу - это труднодостижимая, прилежанием завоеванная цедь.
Наряду с родительским домом, еще две «сестры» одним своим существованием позаботились о том, чтобы опасность стать замкнутым единственным ребенком в семье вообще не возникала: школа в Люнебурге и гитлерюгенд были теми институтами, которые в 30-е годы оказывали значительное влияние на то, что касалось, как это тогда понимали, образования и политического сознания. История, немецкий язык и спорт были в школе теми предметами, которые вызывали у меня интерес. Гитлерюгенд позаботился о постепенном и плавном увлечении фюрером и национал-социализмом. И вскоре неизбежно я был выбран на руководящие позиции: руководитель дружины (так это тогда называлось) планеристов гитлерюгенда в Люнебурге.
Но затем пришла война, рассеявшая все мои помыслы, размышления и мечты, и не только мои! Мои профессиональные желания этих лет колебались от изучения политики и истории до летного дела, до активного офицера Люфтваффе.
И вдруг это произошло, день прощания и вступления в новую жизнь, в солдатскую жизнь: 15 октября 1940 года. Об этом и о том, как мне было все эти годы, я и хочу рассказать.
Остерхольц-Шармбек (Нижняя Саксония)
Смертельный страх охватил меня за долю секунды, когда я потянул за ручку парашюта - и вдруг ощутил ее в руке. Господи, неужели парашют не раскрылся? И не успел я еще додумать до конца, как сильный толчок привел меня в горизонтальное положение - и тогда в один момент вдруг стало совершенно тихо. Когда я взглянул наверх, я увидел над собой широко и наверняка раскрытый парашют. Слава Богу, это я хотя бы пережил!
Прошло немного времени, прежде чем я услышал взрыв моего самолета. Это произошло на вспаханном поле, самолет горел, и моя бортовая рация вместе с ним. Теперь я находился на высоте около 2000 м и имел время сориентироваться. Может быть я еще на немецкой территории? Напряженно я пытался внизу на земле что-нибудь распознать, но кроме маленькой мельницы и нескольких домов вблизи нее я ничего не нашел. Линию фронта при всем желании было не найти. Наверное, это и трудно при такой высоте. А может быть было что-нибудь, что так выглядело? Нет, ничего такого.
Я достал мой пистолет из кобуры, спустил предохранитель и выстрелил в воздух. Да, он в порядке. Часто мы между собой обсуждали; в русский плен - ни за что! Лучше застрелиться. Предусмотрительно я снова убрал пистолет. Делать этот последний шаг еще рано. Сначала нужно выяснить, где я нахожусь. Тогда я всегда успею сделать то, что считаю нужным сделать. Слава богу, перед альтернативой - застрелиться или нет - я поставлен не был.
Когда висишь на парашюте, кажется, что парашют останется висеть в воздухе, особенно, если господствует полное безветрие, как в это утро 2 июня 1943 года.
Лишь постепенно я стал замечать, что спускаюсь вниз и земля подо мной становится больше. Замечательное парение! Только было бы оно по другому поводу, чем этот, который меня ведет в глобальную неизвестность.
А там - что за коричневые фигуры, копошащиеся на моем предполагаемом месте приземления? Но это ведь не немцы! Это могут быть только русские! У ветряной мельницы я увидел светлые женские платья. Итак, я все-таки был еще на русской территории. О Боже, что же будет? В отчаянии я дергал стропы парашюта, чтобы направить его поюжнее. Но это было напрасным трудом. Вертикально мешком я сваливался вниз в руки, которые меня уже поджидали.
Последние метры пролетели быстро, приземление было мягким. Конечно, ведь это была пашня, и навозные кучи были кругом. Несмотря на несколько кувырков, я быстро встал на ноги и тут же увидел бежавших ко мне русских. Я быстро нащупал кобуру - она была пуста. Возможно, это было моим счастьем. Смог бы я действительно приставить ствол к виску? В этом я не уверен.
Я быстро освободился от парашюта и побежал через пашню, без обуви, но так быстро, как только мог. Вблизи я увидел кусты и маленький лесок. Там я хотел спрятаться, чтобы позже попытаться пробраться через линию фронта, которая должна была быть недалеко, на немецкую сторону. Некоторым сбитым летчикам это уже удавалось, почему бы и не мне?
Но тут я увидел, как со всех сторон ко мне бегут русские солдаты. Убежать было невозможно. Я встал и держал руки перед моим телом, в то время как русские продолжали в меня стрелять. Теперь мне стало все безразлично. В этот момент я простился с жизнью. Скорее кончайте - с удовольствием крикнул бы я русским. Они продолжали стрелять, и одна пуля попала в меня. Она прошла через левое предплечье и застряла в правом. Сначала я не почувствовал ничего. Пуля совсем резко пролетела мимо верхней части моего туловища. Ни следа боли!
Затем подбежали русские, кричащая толпа стала меня бить. Я упал на землю, положил руки на затылок. Удары какими-то предметами попадали по затылку и по рукам. Теперь я почувствовал боль, и затылок как будто разрывался. Если я вообще еще был в состоянии думать, у меня была одна мысль: Все, теперь конец! Дай Бог поскорее!
Вдруг они прекратили бить, рывком подняли меня и начали срывать с меня все: наручные часы, портмоне, даже носовой платок, сорвали знаки различия с плеч и, казалось, были удивлены, что я прибыл к ним без сапог. Иначе они бы и обувь сняли с меня.
Маленький мужчина стоял передо мной, в униформе, но без знаков различия. Может быть это так называемый комиссар? Уважение, которое оказывала ему толпа вокруг меня, указывала на это. Он заговорил со мной на ломаном немецком: «Ты не иметь страх, ты не убить. Сталин приказать, не убивать немецкий солдат».
Это звучало совсем успокаивающе. Критический момент пленения я, очевидно, благополучно (что тут можно назвать «благополучно») пережил. Но теперь у меня сильно болели руки, кровь капала через униформу на землю. К тому же раны на затылке. Что же теперь случится со мной?
У меня не было возможности задуматься о моей судьбе, потому что теперь это называлось: Ну, давай! - и под сильной охраной, сопровождаемой половиной деревни, меня толкали вперед по направлению к мельнице и к селу.
Спотыкаясь и еле-еле, под постоянными толчками, пинками, руганью и проклятьями, я продвинулся метров на сто, как у меня вдруг почернело в глазах. Я помню только, что я опустился на землю. Затем меня окутала ночь. Когда я снова пришел в себя, я лежал на кровати. Как это они меня доставили сюда? Рядом, на краю кровати, сидела русская в форме. Она разрезала рукава моей куртки и обрабатывала мои раны. В ногах и в голове стояло по солдату с направленными на меня автоматами в руках. Неужто они боялись, что я убегу?
Боль в предплечье становилась все невыносимее. Особенно левое, наверное сломанное, страшно болело. Задуматься о моем положении было из-за этого просто невозможно.
Приблизительно через час мне пришлось встать. На улице стоял грузовик, в который я должен был влезть. Рядом сел солдат, и началась поездка с адской скоростью по ухабистым улицам. Меня бросало туда-сюда, и я с удовольствием заорал бы от боли. Но позволить русскому, который с издевкой улыбался мне, наслаждаться триумфом - нет, этого я не хотел. Лучше сжать зубы и терпеть!
Затем появился город. Это была Обоянь, место нашей бомбардировки несколько часов назад. Мы ехали мимо вокзала, который узнать можно было только с трудом. По улицам, заваленным руинами, туда-сюда сновали люди. Они грозили мне кулаками, когда узнавали меня. - Вот он, один из тех, кто бомбил наш город, - наверное, думали они. Кроме того, моя форма была им знакома еще по долгой оккупации. Здесь меня хотят высадить? Только не это. Слава Господи, грузовик поехал дальше.
Село за Обоянью было предварительной стоянкой. Я приехал. Больше я эти толчки не выдержал бы. Масса военных машин, на дорогах и на улицах - везде суетливое движение. С любопытством разглядывали меня стоявшие вокруг курящие солдаты. То один, то другой плевал мне под ноги, кидал мне проклятья или насмешки. Меня повели в какой-то дом, и я предстал перед несколькими офицерами, которые теперь начали допрос.
Я тем временем подготовился к такому допросу и твердо решил говорить только то, что нам разрешалось, а именно: имя и воинское звание. Мне было ясно, я другого и не ожидал, что они попытаются выпотрошить меня. Поэтому я решил предпринять следующую тактику: я на фронте лишь первую неделю и ничего не знаю.
И вот оно началось: имя, звание, воинская часть - тут я не ответил. Офицер в бешенстве подскочил ко мне, отпустил в мой адрес пулеметную очередь ругательств, вытащил револьвер и дал мне им по ушам. Но это только усилило мое упрямство. Я назвал лишь свои имя и воинское звание и думал: Можете делать со мной что хотите, больше я ничего не скажу. Смог бы я долго выдержать такую тактику - сегодня я не взялся бы это утверждать. Но мне, как и вообще часто, повезло: счастье в несчастье. Вдруг раздалась сирена: Тревога! Все выбежали наружу. Меня столкнули в яму в хороших 2 метра глубиной, в которой жутко воняло. Они сюда сваливали весь свой мусор.
Так я и сидел, бедное создание, в полном покое и мог наблюдать летящие высоко в небе немецкие боевые самолеты Хе-1П. Ах, если бы вы могли меня отсюда вытащить!
Когда небо очистилось, русские постепенно вылезли из своих нор. Их уважение к немецким самолетам было велико. Они вытащили меня из мусорной ямы и вывели из деревни к одиноко стоявшей крестьянской избе. Рядом с домом стоял полуразваленный хлев. Он и стал на ближайшее время моим пристанищем. Потолок был таким низким, что я не мог стоять во весь рост. По навозу я установил, что это, очевидно, был козий хлев. На полу, кроме охапки вонючей соломы и козьих фекалий, не было ничего. Маленькое окошечко пропускало хотя бы немного света и иногда даже солнечный луч. Если опуститься на колени, я мог через окно видеть украинские дали.
Солдат принес мне в консервной банке суп и немного хлеба. Только сейчас я понял, что у меня хороший аппетит. Когда я в последний раз что-либо ел? Вчера? Сегодня ночью? Это была первая еда в этот богатый событиями день. Голода я не чувствовал, ибо в настоящий момент положение для этого было слишком страшным. Помаленьку стемнело. Взгляд на часы теперь принадлежит прошлому. Навсегда?
В этот день больше ничего не произошло. Я лежал на соломе и попытался подвести итоги. Осознать, что со мной случилось,-я еще не мог. Может, я завтра проснусь - и все будет только сном? Но нет, я не питал иллюзий. Моя жизнь теперь кардинально изменится. Со свободой покончено! Насколько? Навсегда? Пролетела бравая летная жизнь! Но и каждодневная опасность для жизни тоже пролетела. Хотя я и не представлял, что сейчас и в ближайшем будущем на меня только не ополчится. Война для меня закончилась, даже если и вставал вопрос: возможно ли вообще возвращение домой и когда.
Моя эскадрилья давно приземлилась в Харькове. Интересно, я единственный, кто стоит в сегодняшнем списке потерь? Я представил себе, что теперь произойдет. Я как офицер уже несколько раз в подобной же ситуации должен был исполнять такие формальности. Будут ждать только 2 недели, не появится ли все же этот Отте. Затем сообщат родственникам, затем упакуют вещи пропавшего, чтобы отослать их домой. Я даже знал текст таких посланий. Он всегда был одинаков: К сожалению мы должны сообщить Вам печальную весть… и т.д. … пропал без вести или погиб за Великую Германию!
Страшная мысль! Как они воспримут дома это известие? При этом я все же жил - и хотел выжить!
Это и подобное приходило мне в голову, заставляло погрустнеть. Пока, наконец, природа не взяла свое и я, невзирая на жесткую постель и боли, не уснул.
Последующие дни состояли из допросов. Русский майор, который перенял эту миссию, считал, и он постоянно мне об этом напоминал, что я офицер, значит я должен знать все, что он хотел от меня услышать. Я возражал фразой, что лишь 2 недели назад приехал из Германии на фронт, совершил только третий полет и поэтому вообще ничего не знаю. Название моей войсковой части «Эскадра пикирующих бомбардировщиков 77» и место дислокации Харьков они уже давно знали, так что мне не нужно было называть больше, чем мое имя.
Каждое утро меня грубо будил солдат, но он всегда приносил что-нибудь поесть и полить. Затем мне даже разрешалось помыться на дворе, что из-за моих забинтованных и сильно болевших рук было нелегким делом. Я растягивал умывание как можно дольше, так как пребывание на улице на солнце было несравнимо приятнее, чем лежание на вонючей соломе.
Каждые два дня приходил санитар, который менял мне повязки. Он делал это хорошо, и заживление шло быстро. Правда, пуля еще сидела в правом предплечье, но мне это почти не мешало. Только левая рука тревожила и болела. Терпеть сломанную руку без гипсовой повязки днем и ночью было больше, чем просто больно. Как бы ночью я ни крутился, а ночью я всегда лежал, боли были сильными.
После целой недели жестких допросов я придумал, как мне выбраться из этих бесплодных расспрашиваний. Майор начинал каждое утро с одних и тех же вопросов. Возможно, он хотел тем самым установить противоречия. Его очень интересовали даже мои семейные отношения, например, является ли мой отец капиталистом или есть ли у нас дворянское поместье. Иногда его глупые вопросы вызывали просто смех.
Он всегда гневался, когда я настаивал на том, что не знаю, какие эскадры находятся на южном фронте. Тогда он стучал кулаком по столу так, что даже переводчица вздрагивала. Однажды он впал в такую ярость, что выхватил пистолет, направив его на меня, выпустил в меня поток непонятных предложений и затем выстрелил в меня на волосок от моей головы. Маленькая переводчица испугалась больше, чем я.
В конце кондов я сказал ему: «Хорошо, я попытаюсь напрячь мою память как можно сильнее». Как только я это сказал, он снова стал дружелюбным и предупредительным, протянул мне сигарету - «Давай курить» - и распорядился, чтобы я тотчас переехал. Так как у меня не было багажа, переезд был делом момента. Я пришел в стоящую рядом с хлевом крестьянскую избу, которая была абсолютно пуста. В помещении в углу находилась типичная русская печь, на которой было замечательно спать. Стол и стул, бумага и карандаш о одно мгновение появились также. Я должен был написать, какие эскадры между Харьковом и Крымом находятся на каких аэродромах. Имена командиров и, конечно, типы самолетов он тоже хотел знать. Полностью утопичное требование. Мне казалось, что я принцесса из сказки о Румпельштильхен, которая тоже не знала, что писать.
Но что-то мне нужно было изобразить на бумаге. На это я пошел. Таким образом я выдумал аэродромы, единицы, имена командиров и типы самолетов. Из всего этого в течение нескольких дней был составлен подробный план расположения на всем южном фронте. Я долго делал «этот новый эскиз», чтобы выиграть время, и, так как все затевалось ради этого, наслаждаться заметно улучшившейся едой и папиросами как можно дольше.
Однажды утром меня вытащили, завязали глаза - и машина повезла меня - нет, не на расстрел, как я в страхе подумал, - а к генералу. Это был, как мне потом объяснил майор, генерал Ватутин, командующий этим участком фронта. Он заинтересованно смотрел на меня и между прочим спросил, есть ли у меня претензии. Я от возбуждения в состоянии был только заикаться. Но затем я сказал ему, что уже три дня мне не дают умыться, и что раны мои тоже давно не обрабатывались.
Потом мы возвращались назад, в мой дом, опять с завязанными глазами. Что это все значило, я не понял. Неужели они считали, что я могу бежать?
Все мои претензии фактически были удовлетворены. Очевидно, в эти дни летнего наступления, я был для русских ценным пленным. Иначе я не могу себе объяснить такого предупредительного отношения ко мне. Возможно, они действительно ожидали от меня важную информацию, которая относилась к предстоящим боям.
При этом я вспоминаю отношение некоторых офицеров СС в Крыму к подстреленной прямо над аэродромом летчице, стоявшей перед нами после приземления дрожа и плача. Они с удовольствием тут же расправились бы с ней, с этой дрянью. К счастью, вмешался наш командир.
Через несколько дней, когда я как раз заканчивал со своими зарисовками, вдруг открылась дверь, постовой, который почти всегда сидел в моей комнате, салютовал, и вошел генерал, как я понял по широким красным погонам- Он кое о чем спросил и предложил мне вдруг отправить меня за немецкую линию фронта. Я мог бы тогда сообщить, как хорошо живется немецким солдатам в русском плену. Я обалдел от удивления. Ответ не получался. Что бы это могло значить?! Неужели он это и вправду серьезно? Что за западня стояла за этим? К сожалению, я никогда больше о нем не слышал.
Когда я, наконец, отдал ему мои наброски, майор очень обрадовался, он считал, что я хорошо потрудился: «Хорошо, хорошо». Казалось, он озабочен только тем, чтобы выполнить свой долг независимо от того, верны ли мои данные или нет. На протяжении еще долгого времени я боялся, что обман обнаружится. Однажды русские все же должны узнать, что все наврано и выдумано! Мне это непонятно, так как мои «собранные и выдуманные труды» можно было проверить.
Эта первая станция моего плена скоро должна была закончиться. Одним прекрасным утром - была Троица, 13 июня 1943, мой двенадцатый день плена - меня посадили в повозку, передо мной - старый солдат, который позволил лошади медленно двигаться вперед. Он, очевидно, не имел ничего против немцев, так как он не остерегался общаться со мной. При этом мы оба вряд ли знали хоть кроху другого языка. Я понял, что он должен меня доставить в лазарет. Все утро он вез меня по дорогам, мы не встретили ни одного человека. Как просто мне было убежать!
Даже его ружье, которое он небрежно повесил за плечо, меня не могло впечат-лить. Но мое состояние не было таким, чтобы думать о побеге. Боли в левой руке не утихли. Нет-нет, о побеге не было и речи.
Затем показался лазарет. Типичный фронтовой лазарет, несколько палаток, несколько деревенских изб, много санитарных машин и множество ковыляющих и прочих раненых русских солдат.
Я привлек внимание, что привело даже к тому, что все они на меня уставились и приветствовали меня кличем, который я потом часто слышал: «Гитлер капут» или «Война капут!»
Я получил отдельную комнату. Очевидно, я был единственным пленным, которого они заполучили в последнее время. Через день меня забрали на обследование. Врач сделал мне укол в левое предплечье. Затем он с помощью санитара попытался выправить уже криво сросшиеся кости. Это не удалось. Тогда руку положили в гипс. 8 правом предплечье я едва ощущал пулю - все в порядке было со мной - конечно, только относительно того, что касалось ранения.
Моей постелью были деревянные нары, которые были сооружены на нескольких человек. Передо мной в углу была старая, вмурованная плита в руинах, справа - дверь в соседнее помещение и слева - окно во двор. Я в эти дни, что находился здесь, ни от чего не страдал. Довольствие было достаточным, даже с учетом того, что мне нужно было сначала привыкать к довольствию русской армии. Позже, в лагерях, когда меня донимал ужасный голод, я часто с тоской вспоминал эту еду.
Было только скучно и слишком много времени для раздумий. Единственным разнообразием были визиты врача, которые происходили каждые два дня. С самого начала моего пребывания меня сразу же остригли. Непривычное ощущение, жить так с лысиной, но я все равно не мог бы расчесываться. Таким образом я вынужден был выглядеть, как русский. К счастью, не было зеркала.
По ночам у меня было общество. Из разрушенной плиты выползали крысы, так штук 6-8, смотрели на меня любопытными глазами, даже прыгали на мои нары и соскакивали только тогда, когда я их пинал ногами. Они ничего мне не делали - стало быть у меня не было причин сделать что-нибудь им. Но что бы я даже мог сделать? Они посещали меня каждую ночь, и я настолько к этому привык, что едва просыпался, когда они приходили.
В один прекрасный день я получил возможность человеческого общения. Двух летчиков с Ю-87, фельдфебеля Веллера и обер-ефрейтора Рабенорта из первой группы моей эскадрильи поместили в соседнюю комнату, оба были тяжело ранены. Их обстреляли еще на парашютах, Веллеру особенно не повезло. У него был прострелен живот, и он только стонал, говорить он почти не мог. Теперь, наконец, после более четырех недель одиночного плена, мне было с кем поговорить. Мы обменялись нашими переживаниями. Я получил новейшие сведения с фронта.
Так, я узнал, что несколько дней назад в районе Курск-Орел началось ожидаемое великое наступление. Танки якобы имеют хорошие успехи и, возможно, они продвинулись так быстро, что они смогут нас освободить. Так мы беседовали и плели мечты! О чем только не мечтаешь, когда находишься в большой беде. Позже все это оказалось чистейшей химерой, вне всякой реальности.
Состояние Веллера ухудшалось с каждым днем. Пуля прошла через его тело насквозь со спины вперед, так что спереди в нижней части тела зияла дыра величиной с кулак. Русские санитары заткнули ее ватой. Возможно, они считали его безнадежным. Кроме того, они вставили ему через рану резиновую трубку в мочевой пузырь, чтобы моча не вытекала в кровать. Эта трубка была проволокой прикреплена к его мясу. Веллер из-за невыносимых болей вырывал трубку из раны, и сейчас, казалось, боли его были ужасными. Он стонал, катался туда-сюда, усиливая тем самым боль, и все просил нас: Вытащите трубку, вытащите же, наконец, трубку!
Я не мог это больше видеть. Я набрался мужества, вынул из разбитого окна осколок стекла и после глубокого вздоха вырезал проволоку из его мяса. Гной прямо на меня вытекал из его живота, и мне усилием воли пришлось взять себя в руки, чтобы вынести эту сцену, но кто-то должен был это сделать. Облегченно Веллер вырвал трубку из своей раны и стал несколько спокойнее. Когда позднее пришла медсестра, в наш и его адрес разразился скандал. Но в конце концов я добился успеха - Веллер освободился от трубки.
Через несколько дней к нам троим прибавились два венгра, которых сбили на их Юнкерсах-88. Они выглядели ужасающе. Эти двое вылезли из горящего самолета и имели тяжелые ожоги и пулевые раны в руках. Их головы были так забинтованы, что видны были только глаза, нос и рот. Руки тоже торчали в огромных повязках, так что мы вынуждены были их кормить.
Боже мой, какие страшные раны наносит война! Такой ужас я видел впервые.
Таким образом, теперь мы были квинтетом, функционировавшим, однако, лишь частично. Только оберефрейтор Рабенорт и я могли, хотя и ограниченно, делать самое необходимое. Огромные проблемы возникали, когда оба венгра должны были освободить кишечник и пузырь, о Веллере вообще лучше помолчать. Это осуществлялось только с нашей действенной помощью. Только без ложного стыда, сказал я себе, когда я стаскивал штаны с венгра и сажал его на ведро.
Мы, пятеро летчиков, имели совершенно разные ранения, но были обременены одинаковой судьбой. Плен! Мы вместе пытались перебороть безотрадность дней. Каждый рассказывал о себе и своей родине. Только Веллер почти ничего не говорил. Эти рассказы нам очень помогали, но неожиданно мы были грубо вырваны из нашего покоя.
Вдруг наши униформы - или то, что от них осталось - полетели в комнату. Нам почти не дали времени одеться. «Давай, давай!» - звучало постоянно. Веллера положили на носилки, мы четверо ковыляли за ним - действительно печальные фигуры.
Недалеко от лазарета стоял поезд. Русские очень торопились. Суета виделась в их действиях. Раненые были погружены в большой спешке, палатки сняли, и все загрузили в поезд. Связано ли все это с положением на фронте? Если бы они нас оставили здесь!.. Приближающийся грохот орудий мы слышали уже несколько дней.
Но нет, конечно, нет. Нас погрузили в большой товарный вагон. Как только сдвигающиеся двери были закрыты и опломбированы, поезд пришел в движение. Немного света проникало только в щели и в зарешеченное окно. Куда мы едем, мы не могли ни знать, ни догадаться, но наверняка в восточном направлении, подальше от фронта. Каждый из нас лег на голые доски вагона и клевал носом. Много общаться не было сил. Дорога шла дальше на восток, чему мы могли радоваться?
Веллер лежал в коме и уже не реагировал. Один венгр подошел ко мне и сказал на ломаном немецком: «Господин лейтенант, прислушайтесь-ка». При этом он держал свою подвязанную и уже воняющую руку перед лицом. Что это было? Я услышал странное шуршание и шелестение под его повязкой, как будто тан ползали муравьи. К счастью, я прихватил из лазарета пинцет. Одна медсестра просто оставила его лежать.
Он теперь помог мне снять повязку. О боже, это стоило больших усилий, так как рука страшно воняла. Но то, что я увидел, когда осторожно снял последний кусок повязки, заставило меня в ужасе отскочить. Остальные тоже в ужасе отвернулись: в его ранах от выстрелов, полных гноя, копошились тысячи личинок!
Бедный парень побелел от страха и начал стонать. Он думал, что теперь дело за ним, но что мы могли сделать, чтобы помочь ему? Поезд несся с неуменьшающейся скоростью по земле.
Наконец после нескольких часов он остановился. Я ногами ударял по стенам вагона, чтобы на нас обратили внимание. Кто-то ведь должен был это услышать! В это время венгр с бледным лицом сидел в углу. Мы держались на значительном расстоянии. Кто знает, вдруг он нас заразит? Свои гноящиеся, воняющие, съеденные личинками руки он держал далеко от себя. Позднее, в Елабуге, я узнал от одного врача, что личинки мух питаются только гноем и гнилым мясом, т.е. в определенном смысле заживляют раны. Это мы тогда не знали, поэтому наше потрясение было велико.
Теперь голоса усилились. Ругая и проклиная, откатили дверь. Толпа любопытных русских солдат уставилась на нас. Что там хотят эти проклятые германцы? Я подвел венгра к дверям и показал русским его руки. Они тоже в ужасе отвернулись. Несколько человек убежали и вернулись с врачом. Он залез в наш вагон и осмотрел его руки совершенно спокойно. Казалось, это не было для него неприятным зрелищем. Он капнул какую-то жидкость на раны и снова забинтовал руки. Тем самым этот случай был для него закончен. Но для венгра вовсе нет. Он все подносил свою руку к уху, но шелестящие звуки прекратились.
Во время этой суеты мы забыли о Веллере. Он совсем затих. Русский врач посмотрел его и установил, что Веллер мертв. Носилки с умершим вынесли. Так мы простились с ним, особенно тяжело было его бортрадисту.
Вечером мы приехали к месту назначения. Это был - как я позднее узнал - город Тамбов. Здесь меня отделили от моих товарищей. Больше я никогда их не видел. Меня поместили в лазарет, предназначенный только для военнопленных. Позади было «армейское довольствие». Здесь жили впроголодь. Впервые я узнал, что такое голод, ощущал ежедневно урчащий желудок и еще не предполагал, что это ощущение не покинет меня на долгие годы.
Зато медицинское обслуживание было хорошее. Особенно мне запомнилась немолодая уже врач, еврейка. Она трогательно обо мне заботилась, ежедневно сидела у моей постели, обследовала меня, сняла гипсовую повязку и разговаривала со мной, молодым немецким офицером. Была ли это моя молодость, которая заставляла ее так поступать? Был ли у нее тоже сын на фронте? Разве она не знала ничего о преследовании евреев в Германии? Я стыдился, когда думал о том, как нам представляли в прошедшие годы русских, и особенно, конечно, евреев - как извергов. Это не соответ-ствало действительности. Я все больше понимал, что нас обманывали. Это не были, Господь свидетель, никакие «недочеловеки»!!
Я лежал в большом зале, и у меня была даже кровать с белым бельем. Я мог бы хорошо себя чувствовать, так как мои раны хорошо заживлялись. Заботу мне доставляли только пальцы левой руки. Они стали совершенно одеревенелыми. Я массировал их ежедневно и ежечасно, что было очень болезненно. Но это не очень помогало.
Моими товарищами по палате были только венгры. Рядом со мной лежал один, хорошо говоривший по-немецки. Он представился мне как венгерско-еврейский профессор из Будапешта. От него я узнал о трагической судьбе этих мужчин. Они как евреи были согнаны в рабочие роты, которые должны были исполнять самые тяжелые и опасные работы за линией и на линии фронта. При прорыве русских из Сталинграда их обогнали, и тот, кто не был стерт в порошок, попал в плен. Остаток лежал здесь в лазарете. Их, таким образом, намеренно отправляли «в точку». Он рассказывал страшные подробности, как их, например, при наступлении русской армии в декабре прошедшего года использовали как живой бастион и как большая часть рабочей роты погибла. Только единицы выжили в этой катастрофе.
Почти у всех были обморожены ноги и ампутированы пальцы ног. Я видел только ковыляющие фигуры, если он вообще могли подняться с кроватей. К тому же они производили впечатление абсолютной подавленности, такое, будто простились с жизнью, хотя, собственно, они должны были ощущать себя освобожденными от - как это назвал мой профессор - «машины смерти».
С ним я вел многочасовые беседы. То, о чем он говорил, заставляло меня прислушаться. Это все неверно, что вдалбливалось о евреях? Они вовсе не «невосприимчивы к культуре»? И не недочеловеки? Хотя мне уже однажды приходилось сомневаться кое в чем, чему учило многолетнее воспитание в школе и в гитлерюгенде, но только теперь в плену у меня начали раскрываться глаза.
Этому в значительной степени способствовал тот мужчина из Будапешта. Не забылась и еврейка-врач. А что же я мог ответить ему, когда он меня спрашивал: «Что вы, немцы, собственно, имеете против нас, евреев? Почему вы хотите нас уничтожить? Что мы вам сделали?» Все так часто слышанные и выученные пропагандистские лозунги не годились более. Я не в состоянии был их больше произносить. Нацистский «карточный домик» во мне распался.
Но не только безотрадность нашего бытия была темой наших разговоров, он с удовольствием слушал, когда я рассказывал о своей юности, о доме, о моем увлечении летным делом. Он мечтал о Будапеште, о Пеште и о свободной жизни в Венгрии перед войной. И о музыке было много разговоров. О, как ее нам обоим не хватало. Так что пришлось довольствоваться, в основном, теоретическими обсуждениями, при этом он превосходил меня на две головы.
Однажды он стал утверждать, что Моцарт был не немцем, а австрийцем. С этим я не намерен был просто так согласиться, и, таким образом, состоялся дружеский спор между еврейским профессором из Будапешта и немецким летчиком-лейтенантом, и все это в русском плену.
Я еще долго вспоминал своего друга. За эти недели мы по-настоящему подружились. Но теперь я уже давно забыл его имя и адрес. И все же - смог ли он выстоять эти тяжелые годы? Его физическое состояние было очень тяжелым.
Как часто происходит, прощание было неожиданным. Врачиха сообщила мне, что «теперь мне нужно в лагерь для военнопленных». Я здоров и должен освободить место. Сожаление при этом было написано на ее лице. Завхоз появился с несколькими поношенными предметами немецкого мужского обмундирования в руках. Моя собственная летная форма была полностью разорвана. Так что теперь меня одели в достаточно большую немецкую форму. Один Бог знает, какой немецкий соотечественник носил ее, возможно, он скончался здесь в лазарете. Он предоставил мне даже ботинки, парусиновые туфли с толстой резиновой подошвой. Они - и форма, и ботинки - потом сопровождали меня более трех лет. Последнее «доброго здоровья», последнее «прощай», последний взгляд на печальных венгров, затем грузовиком - в лагерь для военнопленных.
Благодаря примечанию на снимке в газете организации по охране военных могил, я знаю сегодня, что это был лагерь 188 у железнодорожной станции Рада в 6 км от
Тамбова. Этот лагерь стал могилой для многих тысяч пленных разных национальностей. Говорят о 56 тыс. умерших из 23 стран, похороненных r братских могилах.
Там я встретил около 40 немецких офицеров, которые все во время летнего наступления попали в плен. Русские добились большой победы и были на марше. Настроение этих немецких офицеров было очень разным. Некоторые смотрели на будущее очень пессимистично, как на свое собственное, так и на то, что касалось шансов Германии на конечную победу. Но большинство ставило на победу. Некоторые держались так, будто они все еще находятся в офицерском казино Вермахта. На них плен не оказал еще никакого влияния. Эти господа могли еще друг друга поднять тем, что не может быть того, чего не должно быть, и распрямиться на слова Христиана фон Мор-генштерна о том, что Германия не может потерять, потому, что ей нельзя потерять. Похожее мнение я в последующие до 1945 годы еще часто слышал. Неисправимые никогда не выигрывали.
Лагерь состоял из большого количества жалких бараков, в которых спали на деревянных нарах. Они стояли глубоко в лесу и были отделены высоким забором с колючей проволокой от внешнего мира. Здешнее положение - еда очень плохая и, прежде всего, нерегулярная, общее настроение среди соотечественников, которые тысячами лежали здесь - очень плохое. Так можно приближенно определить настроение. Сотни пленных мотались по лагерю в поисках пристанища. Ежедневно прибавлялись новые, ежедневно многих увозили. Наше пребывание длилось лишь несколько дней.
С привычным «Давай! Давай!» и «Быстро, Быстро»! в один прекрасный день нас погнали к вокзалу. Это случилось так быстро, будто русские слишком долго наблюдали, как офицеры с рядовым составом пребывают в одном лагере.
Собственно, это было принципом советского содержания военнопленных - размещать офицеров и рядовой состав совершенно раздельно по разным лагерям. Это могло иметь две причины: по одной, офицеры, как это принято в Красной Армии, получали лучшее довольствие, по другой - предоставлялась более интенсивная возможность воздействовать на простых солдат, так как на последних не могли влиять удаленные от них офицеры.
Мы немало удивились, когда вошли в настоящие пассажирские вагоны. Но наша радость вскоре утихла, так как отдельные купе, расположенные вдоль длинного прохода, были закрыты решетками. В купе на высоте груди была полка, так что сидящий внизу должен был втягивать голову, в то же время лежащие наверху вообще не могли сидеть, а лежали как сардины в консервной банке. В этот день мы ничего не ели. Так к незнанию, куда держим путь, добавился мучительный голод, который убавил настроения.
Совсем медленно катился поезд на север. Это мы смогли установить. Может быть в Москву? Перед решеткой стоял солдат с автоматом наперевес. Выход был категорически запрещен. «Нет!» - звучало совсем просто. Этим для него дело было сделано. Пленный должен был сам решать, где он останется со своей мочой.
Это запрещение отправления примитивных физиологических потребностей в течение дня привело к небольшим несчастьям. Один, в конце концов, не выдержал, спустил штаны и пустил струю в проход, почти под ноги русскому.
Крики солдата и его убийственные проклятья не имели конца. Тогда многозначность русской ругани была еще непонятна. Но он выпустил все, что имеется в русском языке среди солдат по части непроизносимых бранных слов.
Еще чуть-чуть, и он выстрелил бы в купе, но прибежавшийофицер сопровождения сделал ему, очевидно, выговор, и таким образом мы, наконец, смогли попасть в туалет, который находился -- ну, скажем, - в типично русском «особом статусе».
Так, к нашему урчащему желудку добавился еще эпизод, нам некогда было скучать. Поезд замедлил ход и, наконец, стал. В жуткой спешке мы должны были освободить поезд и сесть на улице на землю, окруженные группой солдат с лающими собаками. Никто не решался двигаться, все боялись собак. Они вели себя так, будто только и ждали, чтобы их спустили на нас.
Уже подъехало несколько «зеленых джипов». Нас впихивали по 5-8 человек. Страшная теснота сделала жару, длившуюся уже несколько дней, еще невыносимее. Сюда прибавилась и жажда. Заставят ли проклятые парни нас умереть от жажды?! Мы поехали по широким улицам мимо высоких домов. Периодически встречались церкви с типичными башнями, а там - это должен быть Кремль. Итак, мы в Москве, но куда теперь?
Загадка вскоре была решена. Путь вел на другой вокзал, и там стоял товарный поезд, в нем деревянные нары и даже немного соломы. В вагон всегда помещали 40 человек.
Всю ночь напролет поезд катился на восток. Куда, куда? Этот вопрос очень сильно занимал нас. Мысленно мы искали атлас, но наши знания мест восточнее Москвы были более чем скудными.
Ранним утром поезд остановился в достаточно крупном городе: во Владимире, как выяснилось позднее. Двери откатили - охранники с собаками, криками, лаем - как, говорят, уже привычно! Два дня мы не ели, не пили, я шел босиком, потому что мои ноги в твердых парусиновых туфлях без носков невыносимо болели.
Сопровождающий офицер сообщил нам, что нужно прошагать лишь 30 км. Он сочувствовал нам и велел принести достаточно воды. Но еды у него тоже не было. Как нам преодолеть эти 30 км? С голодными желудками в зное летнего солнца- это все же было бесперспективной затеей.
Город называется Суздаль. Там хороший лагерь, - сказал офицер, чтобы успокоить нас. Никто из нас не слышал этого названия.
Новый часовой, 1997, №5, стр. 275-287
Л83 Небо остается чистым. Записки военного летчика. Алма-Ата, «Жазушы», 1970. 344 стр. 100000 экз. 72 коп. Есть события, никогда не стирающиеся из памяти. И сейчас, четверть века спустя, советские люди помнят тот радостный день, когда радио принесло долгожданную весть о полном разгроме фашистской Германии. Автор настоящей книги прошел войну с первого дня до сражения у ворот гитлеровской столицы. На его боевом счету летчика-истребителя около сорока сбитых немецких самолетов. Издательство надеется, что воспоминания дважды Героя Советского Союза генерала…
Военный летчик Antuan Exupery
«Военный летчик» – это книга о поражении и о людях, перенесших его во имя будущей победы. В ней Сент-Экзюпери возвращает читателя к начальному периоду войны, к майским дням 1940 года, когда «отступление французских войск было в полном разгаре». По своей форме «Военный летчик» представляет собой репортаж о событиях одного дня. Он рассказывает о полете французского самолета-разведчика к городу Аррасу, оказавшемуся в немецком тылу. Книга напоминает газетные отчеты Сент-Экзюпери о событиях в Испании, но написана она на ином, более высоком уровне.…
Мы - дети войны. Воспоминания военного летчика-испытателя Степан Микоян
Степан Анастасович Микоян, генерал-лейтенант авиации, Герой Советского Союза, заслуженный летчик-испытатель СССР, широко известен в авиационных кругах нашей страны и за рубежом. Придя в авиацию в конце тридцатых годов, он прошел сквозь горнило войны, а после ему довелось испытывать или пилотировать все типы отечественных самолетов второй половины XX века: от легких спортивных машин до тяжелых ракетоносцев. Воспоминания Степана Микояна не просто яркий исторический очерк о советской истребительной авиации, но и искренний рассказ о жизни семьи,…
Военный летчик: Воспоминания Альваро Прендес
Автор книги, ныне офицер Революционных Вооруженных Сил Кубы. рассказывает о своей военной службе, об участии в революционном движении на острове Свободы против реакционного режима диктатора Батисты и американских империалистов за установление народной власти в стране.
Акарат а Ра (или Исповедь военного летчика) Сергей Крупенин
Акаракт а Ра – дословно означает осознание зла. В жанре фэнтэзи поднимается новое ощущение мироздания, основанное на данных современных отраслей науки и древней науки каббала, которые не только не противоречат, но и дополняют друг друга. Все данные приведенные в повести можно проверить самостоятельно.
Лётчики М. Барабанщиков
Сборник «Летчики» посвящается 60-летию ВЛКСМ. В книгу вошли очерки о выдающихся военных летчиках, воспитанниках Ленинского комсомола, бесстрашно защищавших родное небо в годы Великой Отечественной войны. Среди них дважды Герои Советского Союза В. Сафонов, Л. Беда, Герой Советского Союза А. Горовец, только в одном бою сбивший девять самолетов врага. Предисловие к книге написал прославленный советский летчик трижды Герой Советского Союза И. Кожедуб.
Большое шоу. Вторая мировая глазами французского… Пьер Клостерман
Автор книги - военный летчик, участник Второй мировой войны - описывает сражения в небе, какими он видел и оценивал их сам. Впечатления Пьера Клостермана, записанные в перерывах между боевыми действиями и операциями, рисуют читателю точную и достоверную картину военных событий и передают яркие чувства, пережитые французским летчиком.
Скорость, маневр, огонь Анатолий Иванов
Герои документальной повести заслуженного военного летчика СССР полковника А. Л. Иванова – советские пилоты, вставшие по первому зову Родины на ее защиту в годы Великой Отечественной войны. Автор воскрешает бессмертные подвиги летчиков-истребителей в боях против фашистских захватчиков в небе Кубани, Украины, Белоруссии и на завершающем этапе войны.
Солдатская награда Уильям Фолкнер
Свой первый роман «Солдатская награда» (первоначальное название «Сигнал бедствия») Фолкнер писал в Новом Орлеане в 1925 г. Сюжет романа связан со стремлением Фолкнера во время первой мировой войны стать военным летчиком. Как известно, он поступил в школу военных летчиков в Канаде, но война закончилась до его выпуска из школы. Роман вышел в 1926 г. и успеха не имел, хотя и был замечен многими выдающимися писателями Америки. После второй мировой войны роман был переиздан и разошелся большим тиражом.
Месть Джим Гаррисон
Повесть классика современной американской литературы, по которой Тони Скотом снят знаменитый фильм с Кевином Костнером и Энтони Куином в главных ролях. Гаррисон может писать о кровавом любовном треугольнике с участием могущественного наркобарона и бывшего военного летчика или виртуозно упаковывать в сотню страниц лиричную семейную сагу, но его герои всегда ищут справедливости в непоправимо изменившемся мире и с трудом выдерживают напор страстей, которым все возрасты покорны.
Черная акула Иван Сербин
Молниеносная реакция воздушного аса помогает военному летчику Алексею Семенову избежать пули после выполнения боевого задания. Истребитель, на котором он совершает ночной перелет над охваченной боями Чечней, исчезает вместе с… аэродромом, а сам он, словно загнанный зверь, уходит от погони спецназовцев, срывая преступную операцию продажного армейского генерала. Но не все продается и покупается. Есть боевое солдатское братство, есть люди, умеющие смотреть в глаза смерти и отвечать на удар ударом. С такими союзниками Алексей не одинок – схватка…
Полет на заре Сергей Каширин
В этой книге многое на первый взгляд может показаться преувеличенным для занимательности: военные летчики, о которых рассказывается в ней, часто попадают в крайне опасные положения, но из любой обстановки выходят победителями. Вместе с тем все эпизоды достоверны и большинство героев названы их настоящими именами. Они и сегодня служат в армии, свято храня боевые традиции своих отцов и дедов. В недавнем прошлом автор книги сам был военным летчиком, летал на многих современных самолетах. Он рассказывает о людях, с которыми вместе летал, совершал…
Крылом к крылу Василий Барсуков
Книга бывшего военного летчика, Героя Советского Союзе о подвигах замечательных асов 303-й истребительной авиадивизии под командованием Героя Советского Союза генерала Г. Н. Захарова, а также о пилотах прославленного полка «Нормандия - Неман», входившего в состав 303-й дивизии, - Марселе Альбере, Жаке Андре, Роллане Пуапа, Марселе Лефевра, удостоенных высокого звания Героя Советского Союза. Книга иллюстрирована рисунками автора. Он рисовал и делал записи в перерывах между боями, стараясь запечатлеть то, что видел своими глазами.
У самого Черного моря. Книга II Михаил Авдеев
Автор этой книги - Михаил Васильевич Авдеев - известный морской летчик. В авиацию пришел в 1932 году. Великую Отечественную войну встретил в Крыму заместителем командира эскадрильи, через год стал командиром полка: талантливые офицеры всегда быстро поднимались по должностным ступеням. В жестоких воздушных боях сбил 17 вражеских самолетов. Познал горечь отступления и радость побед. Дрался за Севастополь, Перекоп, участвовал в освобождении Кавказа, войну закончил в Болгарии. Летчики полка, которым командовал М. В. Авдеев, сбили 300 вражеских самолетов,…
Однополчане Александр Чуксин
В повести «Однополчане» рассказывается о боевом пути авиационного полка в годы Великой Отечественной войны. Автор повести, сам в прошлом военный летчик, хорошо знает жизнь славных соколов, их нелегкий ратный труд, полный героизма и романтики. Многие страницы повести, посвященные описанию воздушных боев, бомбардировочных ударов по тылам врага, полны драматизма и острой борьбы, читаются с большим интересом. Герои книги - советские патриоты до конца выполняют свой долг перед Родиной, проявляют бесстрашие и высокое летное мастерство. Патриотизм,…
Красавица и генералы Святослав Рыбас
Аннотация издательства: Роман о белом движении на Юге России. Главные персонажи - военные летчики, промышленники, офицеры, генералы Добровольческой армии. Основная сюжетная линия строится на изображении трагических и одновременно полных приключений судьбах юной вдовы казачьего офицера Нины Григоровой и двух братьев, авиатора Макария Игнатенкова и Виталия, сначала гимназиста, затем участника белой борьбы. Нина теряет в гражданской войне все, но борется до конца, становится сестрой милосердия в знаменитом Ледяном походе, сделавшимся впоследствии…
У-3 Хяртан Флёгстад
Хяртан Флёгстад - один из современных писателей Норвегии, превосходный стилист. В основе его остросюжетного политического романа «У-3» действительные события недавнего прошлого, когда реакционные круги США сорвали переговоры между руководителями двух великих держав, заслав в воздушные пространства СССР шпионский самолет, который был сбит советской ракетой. Герой романа - молодой военный летчик, обучавшийся в США, ставший выразителем протеста своих соотечественников против авантюрных действий американской военщины. Автор тонко показывает,…
Тайна Мастера Николай Калифулов
По замыслу автора в романе «Тайна Мастера» показано противоборство двух систем - добра и зла. На стороне светлых сил основной персонаж Генрих Штайнер, уроженец немецкой колонии. В начале тридцатых годов двадцатого столетия, проходя службу в советском авиаотряде рядом с секретной германской летной школой, военный летчик Генрих Штайнер будет привлечен местными чекистами в работу по изобличению германских агентов. Затем произойдут события, в результате которых он нелегально покинет Советский Союз и окажется в логове фашистской Германии. А…