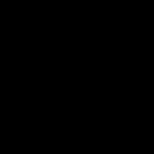Солипсизм. Направление и трактовка в философии. Проблемы доказательства существования «объективной действительности». Солипсизм, скептицизм, агностицизм Скептицизм и солипсизм их философские основания
- Философия и её роль в системе знаний, мировоззренческие и методологические функции. Философский принцип единства мира и интеграция научного знания.
- Проблема предметного самоопределения философии, её взаимосвязь с наукой, культурой, идеологией. Сциентизм и антисциентизм в понимании предмета и сущности философии.
- Генезис философского знания как историческая, научная и социокультурная проблема. Цивилизационные особенности становления философии.
- Античная картина мира. Космоцентризм, его философские и научные аспекты, ценностно-познавательные ориентиры.
- Античный диалог как форма философствования. Дискурсивная и эзотерическая формы философского знания: традиции и современность.
- Средневековая картина мира. Теоцентризм и креационизм как мировоззренческие принципы. Основные этапы развития средневековой философии.
- Философия и религия как мировоззренческие оппозиции: онтологические и гносеологические основания. Вера и разум как фундаментальные категории средневекового мышления.
- Антропоцентризм как мировоззренческий ориентир Возрождения и научной революции XVI – XVII веков
- Проблематика генезиса и точки отсчёта научного знания. Дискретная и континуальная модели развития науки, их философские основания
- Научная революция как феномен культуры. Картина мира, парадигма, научно-исследовательская программа
- «Знание – сила» и «Cogito ergo sum». Проблема самодостоверности человеческого сознания.
- Механистическая картина мира как итог научной революции XVI – XVII веков и основание классической науки.
- «Картезианские размышления»: традиции и современность
- «Esse est percipi» как мировоззренческий ориентир и программа исследований. Субъект как внепространственная и вневременная опора мира
- Свобода воли как философский первопринцип. «я» как интеллектуальная интуиция. Воля и сущность бытия в противопоставлении объекта и субъекта
- Скептицизм и солипсизм, их философские основания
- Немецкая классическая философия: единство идей и движущие принципы. Универсальная проблематика как кульминационный пункт интеллектуального развития
- Критическая философия Канта, её принципы и задачи. Проблема границ человеческого разума, синтетические априорные суждения.
- Этические и эстетические формы критицизма. «Наукоучение» Фихте как развитие идей критической философии
- Природа как объект натурфилософского исследования. Действительное и разумное. Единство мира и развитие как творческий процесс.
- Философия иррационализма. Романтическое движение XVIII – начала XIX веков. Философия жизни
- Русская философия, её основные черты. «Русская идея», её становление и историческое развитие
- Специфика развития русской идеи в религиозной философии. Всеединство и Соборность
- Русский космизм, его античные истоки и современные интерпретации. Религиозный, естественнонаучный, художественный космизм
- Западничество и славянофильство как фундаментальная антиномия российской ментальности. «Москва – Третий Рим»
- Мир как данность и как проблема. Мир действительный и умопостигательный: проблема редукции и априорности. Бытие, небытие, ничто
- Онтология и различение бытия и сущего. Сущее как исходная точка рассмотрения бытия. Онтологическое и онтическое
- Мышление и бытие. «Онтологичность» философии. Бытие как вневременная реальность и как оппозиция сознанию
- Идеальное, его природа, проблематика, типология. Объективный и субъективный идеализм в их соотношении
- Проблема «материя и сознание» в истории философской мысли. Аспекты противоположности материи и сознания
- Идеализм как система взглядов и как доктрина. Соотношение религиозной философии и идеализма. Современные формы спиритуализма
- Материализм, его исторические формы. Философский и научный смысл понятия «материи», его эволюция
- Пространство и время как характеристики представления человека о мире, как совокупности отношений и как уровни бытия. Субстанциальная и реляционная концепции пространства и времени.
- Философское, научное и обыденное представление о пространстве и времени, культурные и цивилизационные аспекты. «Хронотоп» как единство пространственно-временных характеристик
- Концептуализация пространства и времени в философии техники и философии хозяйства. Жизненное пространство как концепт современного гуманитарного знания
- Познание как психофизическая проблема. Объективное и субъективное в процессе познания, их демаркация
- Чувственное и рациональное в познании. Рационализм, сенсуализм, эмпиризм.. Логическое и интуитивное в науке и в общей системе знаний
- Детерминизм как фундаментальный онтологический и методологический принцип. Причина и следствие, случайность и необходимость
- Язык как исходное измерение человеческого существования, система знаков и отношение человека к миру. Язык и мышление
- Идентичность и самосознание. Утрата идентичности как основная проблема во взаимодействии личности и общества. Знание и человек: проблема соразмерности
- Проблематика границ и возможностей человеческого знания. Граница мышления и граница проявления мысли. Агностицизм, фаллибилизм, скептицизм
- Истина как фундаментальное понятие теории познания. Догматизм и релятивизм. Проблематика критериев истины. Теории когеренции и корреспонденции
- Истина, ложь, заблуждение в их соотношении. Прагматизм, конвенционализм, скептицизм, фаллибилизм в трактовке истины. Мистицизм в познании
- Творчество как объект философского осмысления. Проблематика соотношения рационального и иррационального в творческой деятельности. Интуиция как способ постижения истины, условия её формирования
- Человек, сущее, бытие: проблематика соотношения. Бытие человека как проблема. Коэволюционные идеи и «экология разума». Перспективы развития ноосферы
- Человек и вещь как философская проблема. Вещь как стратегия утверждения «я»: социальный мотив и материальный предмет. Человек, вещь, имя
- Исторические и социальные процессы в их философском осмыслении. Теологическая концепция, теория исторического круговорота, просветительская концепция, формационный и цивилизационный подходы
- Движение и развитие: альтернативные подходы. Движение как фундаментальное свойство бытия, основные векторы его проблематики
- XIII в. Высказал убеждение, что "движение есть способ существования материи". Эта мысль была подхвачена и развита французскими материалистами.
- Законы развития и диалектика бытия. Проблема прогресса. Диалектика и синергетика. Современные концепции самоорганизации
- Этика как философское учение о нравственности и концептуальная система. Добро и зло как основные категории этики. Противостояние злу как нравственная проблема современности
- Искусство как объект философского осмысления. Проблематика статуса эстетики, специфика её генезиса и становления. Прекрасное и безобразное как категории в эстетике
Античный диалог как форма философствования. Дискурсивная и эзотерическая формы философского знания: традиции и современность.
V-IV века – период интенсивнейшего развития греческой философии, создания основных философских систем древности. К этому времени относится и материализм Демокрита, и идеализм Платона и, наконец, колеблющаяся между материализмом и идеализмом система Аристотеля, не говоря уже о многочисленных менее значительных мыслителях. В этот же период создаётся и специфическая форма художественного философского изложения – диалог: мыслитель излагает свои взгляды в форме спора какого-нибудь мудреца с противником или беседы его с учениками.
Диалоги представляли собой одновременно и своеобразную форму сократовского философствования, и стиль его жизни, сознательно подчинённой поискам истины и целостности. Используя метод диалектических споров Сократ пытался восстановить через свою философию авторитет знаний, поколебленный софистами. Софисты пренебрегали истиной, а Сократ сделал её своей возлюбленной. Для Сократа беседа – это диалогическая форма обсуждения соответствующего предмета и поиска истины и целостности. В целом можно сказать, что диалоги Сократа – это и есть его диалектика в действии.
Сократ в своих беседах часто прибегал к индукции, используя её как при образовании общих определений, так и с противоположной целью – для наглядной демонстрации ошибочности тех односторонних и мнимых «общих» определений, которые опрометчиво предлагались его собеседникам на основе поверхностных и поспешных обобщений эмпирического характера. В данном отношении можно сказать, что Сократ умело использует такой приём опровержения оппонента, как противопоставление более последовательной и обстоятельной индукции – индукции случайной и непродуманной.
Свои приёмы исследования Сократ сравнивал с «искусством повивальной бабки» (майевтика); его метод вопросов, предполагающих критическое отношение к догматическим утверждениям, получил название «сократовской иронии».
Под майевтикой Сократ подразумевал последнюю фазу иронического процесса, когда он помогал освободившемуся от фальшивых иллюзий, от самонадеянности и самоуверенности человеку «родить» истину.
Майевтика – метод Сократа извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов.
Диалектика Сократа: Ирония – Майевтика (познай самого себя) – Индукция (метод наведения мостов).
Эзотерика – это учение, совокупность знаний, предназначенных только для посвящённых людей, несущих данную тайну в себе и не имеющих право распространять её за пределы своего знания. Учение содержит всё то, что собиралось, накапливалось, столетиями хранилось, передавалось из поколения в поколение и совершенствовалось в культуре разных народов. Эзотерика – это процесс познания окружающего мира и бытия, познание самого себя как части целого. Каждый человек несёт в себе тайну, и она должна принадлежать только ему – вот истинный смысл эзотерики.
Дискурс – речь, процесс языковой деятельности; способ говорения.
Три основных класса употребления термина:
Дискурс мыслится как речь, вписанная в коммуникативную ситуацию и в силу этого как категория с более отчётливо выраженным социальным содержанием по сравнению с речевой деятельностью индивида.
Стремление к уточнению традиционных понятий стиля и индивидуального языка.
Дискурсом называется особый идеальный вид коммуникации, осуществляемый в максимально возможном отстранении от социальной реальности, традиций, авторитета, коммуникативной рутины и т.п. и имеющий целью критическое обсуждение и обоснование взглядов и действий участников коммуникации.
Солипсизм и скептицизм
Когда мой мозг производит в моей душе ощущение дерева или дома, я поспешно говорю, что реально вне меня существует дерево или дом, причем я знаю даже их месторасположение, величину и другие качества. Поэтому не найдется ни человека, ни животного, которые бы усомнились в этой истине. Если бы какой-нибудь крестьянин захотел в ней усомниться, если бы он, к примеру, сказал, что он не верит, что существует его бальи, хотя он и был бы перед ним, его приняли бы за сумасшедшего и с полным на то основанием; но когда такие суждения выдвигает философ, он желает, чтобы все восхищались его разумом и просвещенностью, бесконечно превосходящими разум и просвещенность народа.
Леонард Эйлер (1911 , с. 220)
Начнем с начала. Как можем мы надеяться на достижение обьективного (пусть даже приблизительного и частичного) познания мира? У нас никогда нет прямого доступа к нему; непосредственно нам знакомы лишь наши ощущения. Откуда мы знаем, что есть что-то вне их?
Ответ в том, что у нас нет никакого доказательства того, что существует что-то вне наших ощущений; это просто в высшей степени разумная гипотеза. Наиболее естественный способ объяснить постоянство наших ощущений (в особенности неприятных) состоит в предположении, что они порождаются причинами, внешними нашему сознанию. Почти всегда мы можем распоряжаться, как сами мы того захотим, ощущениями, которые являются продуктами нашего воображения, но никто простым усилием мысли не остановит войну, не заставит исчезнуть льва и не починит сломавшуюся машину. Очевидно, и это необходимо подчеркнуть, что этот аргумент не опровергает солипсизм. Если кто-то будет упорно утверждать, что он является «клавесином, который играет сам по себе» (Дидро), не найдется никакого средства убедить его в том, что он заблуждается. Тем не менее, мы никогда не встречали искренних солипсистов и сомневаемся, что они вообще существуют 45 . Это иллюстрирует важный принцип, который мы будем много раз использовать: тот факт, что некоторое мнение не может быть опровергнуто, никоим образом не подразумевает, что есть хоть какое-то основание считать его истинным.
На месте солипсизма часто встречается радикальный скептицизм. Конечно, говорят в таком случае, существует внешний моему сознанию мир, но у меня нет возможности получить надежные познания о нем. И снова тот же самый аргумент: непосредственно я имею доступ только к моим ощущениям; откуда мне знать, соответствуют ли они реальности? Для этого мне пришлось бы прибегнуть к аргументу a priori, такому, как доказательство благожелательности божества у Декарта, а такие доказательства в современной философии стали (по вполне разумным причинам, которые мы не будем рассматривать) весьма сомнительными.
Эта проблема, как и множество других, была прекрасно сформулирована Юмом:
Произведены ли чувственные восприятия внешними объектами, которые на них походят, - это вопрос факта, но как он мог бы быть решен? Естественно, посредством опыта, как и все вопросы подобной природы. Но опыт в данном случае молчит и не может поступить иначе. Разуму всегда представлены одни лишь восприятия, и для него нет никакой возможности достичь какого бы то ни было опыта их связи с объектами. Таким образом, предположение такой связи не имеет никакого разумного основания. (Давид Юм, «Исследование о человеческом познании», 1982 , с. 160)
Какую позицию занять по отношению к радикальному скептицизму? Если вкратце, то ответ состоит в том, что юмовский скептицизм приложим ко всем нашим познаниям: не только к существованию атомов, электронов или генов, но и к тому факту, что кровь течет по венам, что Земля имеет (приблизительно) круглую форму, что при рождении мы вышли из живота нашей матери. Действительно, даже самые банальные знания повседневной жизни - вроде того, что передо мной стоит стакан - полностью зависят от гипотезы, согласно которой наши восприятия систематически нас не обманывают, что они произведены внешними объектами, которые на них каким-то образом походят 46 . Универсальность юмовского скептицизма одновременно оказывается его слабостью. Конечно, он неопровержим. Но поскольку никто не является скептиком (когда, по крайней мере, он или она искренни) в отношении обыденного познания, нужно спросить себя, почему скептицизм отвергается в этой области и почему он, тем не менее, оказывается значимым по отношению к чему-то другому, например, научному познанию. Мотив, по которому мы отвергаем систематический скептицизм в обыденной жизни более или менее очевиден и покоится он примерно на тех же рассуждениях, которые приводят нас к отвержению солипсизма. Лучший способ объяснить связность нашего опыта состоит в том, чтобы предположить, что внешний мир по крайней мере приблизительно соответствует его образу, который предоставляется нам чувствами 47 .
Сегодня многие люди считают свое мнение единственно правильным и не подлежащим никакому сомнению. Существование иной реальности, которая в чем-то не похожа на собственную, такие личности отвергают и относятся к ней критически. Философы уделили этому явлению достаточно внимания. Исследуя такое самосознание, они пришли к определенным выводам. Эта статья посвящена солипсизму как проявлению с субъективной центрической установкой.
Общие понятия
Философский термин «солипсизм» происходит от латинского solus-ipse ("единственный, сам"). Другими словами, солипсист - это человек, обладающий такой точкой зрения, которая воспринимает без сомнений только одну реальность: собственное сознание. Весь внешний мир, вне собственного сознания, и другие одушевленные существа подлежат сомнению.
Философская позиция такого человека утверждает, несомненно, лишь собственный субъективный опыт, сведения, обработанные индивидуальным сознанием. Все, что существует независимо от него, в том числе и тело - это лишь часть субъективного опыта. Можно утверждать, что солипсист - это человек с точкой зрения, выражающей логику той субъективной и центристской установки, которую приняли в западной классической философии Нового времени (после Декарта).
Двоякость теории
Тем не менее многим философам было трудно выражать свою точку зрения в духе солипсизма. Это связано с противоречием, возникающим в связи с постулатами и фактами научного сознания.
Декарт говорил: «Я мыслю - значит, я существую». Этим утверждением при помощи онтологического доказательства он говорил о существовании Бога. Согласно Декарту, Бог - не обманщик и, следовательно, Он гарантирует реальность других людей и всего внешнего мира.
Итак, солипсист - это человек, для которого реальностью является только он сам. И, как было сказано выше, человек реален прежде всего не как материальное тело, а исключительно в виде совокупности актов сознания.
Смысл солипсизма можно понимать двояко:
- Сознание в качестве реального собственного личного опыта как единственно возможного влечет за собой утверждение «Я» как собственника этого опыта. К такому пониманию близки тезисы Декарта и Беркли.
- Даже при существовании единственно несомненного личного опыта, нет того «Я», к которому тот самый опыт принадлежит. «Я» - это лишь совокупность элементов того же самого опыта.
Выходит, что солипсист - это парадоксальный человек. Двоякость солипсизма наилучшим образом выразил Витгенштейн Л. в своем «Логико-философском трактате». Современная философия все более склонна к такой точке зрения, которая внутренний мир «Я» и индивидуальное сознание не представляет возможным без коммуникаций субъекта в реальном материальном мире с другими людьми.

Тесные рамки
Современные философы-солипсисты отказываются от рамок классической философии относительно субъективной центристской установки. Уже в поздних своих работах Витгенштейн писал о несостоятельности таких позиций солипсизма и невозможности чисто внутреннего опыта. С 1920 года начинает утверждаться мнение, что люди принципиально не могут согласиться с солипсизмом, предлагаемым от имени иного человека. Если человек рассматривает себя отдельно от других, то относительно самопереживаний солипсизм будет выглядеть убедительно, но именно отношение к другому человеку является констатацией реального переживания.

Какую позицию выражали известные солипсисты прошлого и современности?
Беркли отождествлял физические вещи с совокупностью ощущений. Он считал, что непрерывность существования вещей никто не воспринимает, невозможность их исчезновения обеспечивается восприятием Бога. Причем это происходит постоянно.
Д. Юм считал, что с исключительно теоретической точки зрения невозможно доказать существование других людей вместе с внешним миром. Человеку нужно верить в их реальность. Без этой веры познание и практическая жизнь невозможны.
Шопенгауэр отмечал, что крайний солипсист - это человек, который может быть принят за умалишенного, так как он признает реальность исключительного «Я». Более реалистичным может быть умеренный солипсист, признающий сверхиндивидуальное «Я» в определенной форме как носителя сознания.
Кант считает собственный опыт за конструкцию своего «Я»: не эмпирического, а трансцендентального, в котором стерты различия между другими и собственной личностью. Относительно «Я» эмпирического можно сказать, что его внутреннее осознание собственных состояний предполагает внешний опыт и сознание независимых материальных предметов и объективных событий.

Психология и солипсизм
Такие современные как Фодор Дж., считают, что главной стратегией исследований в этой области науки должен стать методологический солипсизм. отличная от классического понимания философов позиция, согласно которой, изучать психологические процессы необходимо, проводя анализ вне отношения к внешнему миру и его событиям вместе с другими людьми. Такая позиция не отрицает существование внешнего мира, а факты сознания и психические процессы связывают с деятельностью головного мозга как материального образования в пространстве и времени. Однако многие психологи и философы считают такую позицию тупиковой.

Радикальные взгляды
Интересно, к какому крайнему выводу логически приходит солипсист, которого можно считать радикальным?
Такая позиция хоть и бывает иногда более логичной, но одновременно является неправдоподобной. Если отталкиваться только от соблюдения логической правильности, к которой стремится солипсизм, то человек должен ограничиться только психическими состояниями, которые он сейчас непосредственно осознает. К примеру, Будда довольствовался тем, что мог размышлять при рычании тигров вокруг него. Если бы он был солипсистом и размышлял логически последовательно, то, по его мнению, тигры перестали рычать, когда он прекратил их замечать.
Крайняя форма солипсизма говорит о том, что вселенная состоит только из того, что в данный момент может быть воспринимаемым. Радикальный солипсист должен утверждать, что, если в течение какого-то времени его взор рассеянно останавливался на чем-то или ком-то, значит, в нем в результате этого ничего не происходило.
Эта теория связана, с одной стороны, с доведенным до крайности положением предшествующей теории, а с другой - с теориями младенческого возраста, развиваемыми в психоаналитической школе (3. Бернфельд). Рассматриваемая теория представляет собой как бы синтез этих двух концепций. В наиболее полном и последовательном виде она развита Ж. Пиаже, который говорит, что сознание младенца для нас загадка. Одним из путей проникновения в его сознание является путь регрессивный. Известно, говорит Пиаже, что самая значительная особенность, отличающая поведение и мышление ребенка от таковых у взрослого человека, - это эгоцентризм. Он усиливается по мере спускания вниз по возрастной лестнице. У человека в 18 лет эгоцентризм выражен иначе, чем в 10-летнем возрасте, и в 6 лет еще иначе и т. д. В 4 года эгоцентризм заполняет почти все мысли ребенка. Если рассмотреть этот эгоцентризм в пределе, то можно допустить, полагает Пиаже, что младенцу присущ абсолютный эгоцентризм, который можно определить как солипсизм первого года.
Логическая мысль, по Пиаже, развивается у ребенка поздно. Она всегда заключает в себе нечто социальное. Она связана с речью. Без слов мы бы мыслили, как в сновидении: образами, объединенными чувством и обладающими смутным, совершенно индивидуальным и аффективным значением. Эту мысль в отличие от социализированной логически зрелой мысли мы и наблюдаем в сновидениях, а также у некоторых больных. Ее принято называть аутистической мыслью. Аутизм и логическое мышление - два полюса: один - чисто индивидуальный, другой - чисто социальный. Наша нормальная зрелая мысль постоянно колеблется между этими полюсами. В сновидениях и при некоторых душевных заболеваниях человек теряет всякий интерес к объективной действительности. Он погружен в мир собственных аффектов, находящих свое выражение в образном, эмоционально окрашенном мышлении.
Младенец, согласно этой теории, также живет как бы в сновидении. 3. Фрейд говорит о нарциссизме младенца так, словно он не имеет интереса ни к чему другому, кроме самого себя. Младенец принимает все окружающее за самого себя, наподобие солипсиста, отождествляющего мир со своим представлением о нем. Дальнейшее развитие ребенка заключается в постепенном убывании солипсизма и постепенной социализации мышления и сознания ребенка, обращающегося к внешней действительности. Эгоцентризм, свойственный ребенку более позднего возраста, является компромиссом между изначальным солипсизмом и постепенной социализацией мысли. Степенью эгоцентризма и можно поэтому измерять продвижение ребенка по пути развития. С этой точки зрения Пиаже толкует ряд детских реакций, наблюдавшихся им в эксперименте и близких по типу к часто проявляющимся формам поведения в младенческом возрасте, например магическое отношение к вещам.
Уже из простого изложения теории легко видеть, что она представляет собой попытку изобразить развитие в младенческом возрасте в вывернутом наизнанку виде. Эта теория - прямая и полярная противоположность приведенной нами концепции младенческого развития. Мы видели, что изначальный момент его характеризуется тем, что все жизненные проявления младенца вплетены и вотканы в социальное, что путем длительного развития возникает у ребенка сознание «пра-мы», что сознание нераздельной психической общности, отсутствие возможности самовыделения составляют самые отличительные свойства сознания младенца. Теория же солипсизма утверждает, что ребенок есть пресоциальное существо, целиком погруженное в мир сновидного мышления и подчиненное аффективному интересу к самому себе. Ошибка, лежащая в основе этой теории, как и теории Фрейда, заключается в неправильном противопоставлении двух тенденций: 1) к удовлетворению потребностей и 2) к приспособлению к реальности, т. е. принципа наслаждения и принципа реальности, аутистического и логического мышления. На самом деле та и другая не представляют собой полярных противоположностей, но теснейшим образом связаны друг с другом. Тенденция к удовлетворению потребностей, в сущности, есть только другая сторона тенденции к приспособлению. Наслаждение также не противоречит реальности. Они не только не исключают друг друга, но в младенческом возрасте почти совпадают.
Так же точно логическое и аутистическое мышление, аффект и интеллект представляют собой не два взаимоисключающих друг друга полюса, а две теснейшим образом связанные друг с другом и нераздельные психические функции, выступающие на каждом возрастном этапе как нерасчленимое единство, хотя и заключающее в себе все новые и новые отношения между аффективной и интеллектуальной функциями. Генетически вопрос решается с точки зрения того, насколько аутистическое мышление может быть принято за первичное и примитивное. Фрейд, как известно, защищал эту точку зрения. В противоположность ему Э. Блейлер показал, что аутистическое мышление есть поздно развивающаяся функция. Он возражает против мысли Фрейда, что в ходе развития механизмы удовольствия первичны, что ребенок отделен скорлупой от внешнего мира, живет аутистической жизнью и галлюцинирует об удовлетворении своих внутренних потребностей. Блейлер говорит, что он не видит галлюцинаторного удовлетворения у младенца, он видит удовлетворение лишь после действительного приема пищи. Наблюдая более взрослого ребенка, он также не видит, чтобы ребенок предпочитал воображаемое яблоко действительному.
Новорожденный реагирует во всех своих стремлениях на реальность и в духе реальности. Нигде нельзя найти или даже представить себе жизнеспособное существо, которое не реагировало бы в первую очередь на действительность, которое не действовало бы, совершенно независимо от того, на какой низкой ступени развития оно стоит.
Э. Блейлер показывает, что аутистическая функция требует вызревания сложных предпосылок в виде речи, понятий, способности к воспоминанию. Аутистическая функция не столь примитивна, как простые формы реальной функции.
Таким образом, психология животных, как и психология младенца, знает только реальную функцию. Аутистическое мышление ребенка делает крупнейшие успехи вслед за развитием речи и главнейшими шагами в развитии понятий.
Таким образом, аутистическое мышление не только не совпадает с бессознательным и бессловесным, но само опирается на развитие речи. Оно оказывается не изначальной, но производной формой. Аутистическое мышление не примитивная форма мышления, оно могло развиться лишь после того, как мышление, работающее с помощью одних только картин воспоминания, берет верх над немедленной психической реакцией на актуальные внешние ситуации. Обычное мышление - функция реального - первично и столь же необходимо всякому наделенному психикой жизнеспособному существу, как и действия, соответствующие реальности.
Были сделаны попытки ограничить теорию солипсизма применением только к периоду новорожденности. Сторонники этого взгляда поясняли, что стадия солипсизма длится у младенца недолго и уже на 2-м месяце утрачивает свой абсолютный характер. Первая брешь образуется в тот момент, когда ребенок начинает отвечать на голос или улыбку взрослого общим оживлением или ответной улыбкой. В общем, в свете известных данных по социальности младенчества трудно присоединиться к концепции солипсизма относительно ребенка старше 2 месяцев. Она применима, по нашим определениям, в полной мере лишь к детям глубоко умственно отсталым и идиотам.
Второе утверждение Пиаже относительно аутизма младенца также применимо больше к олигофрену, чем к нормальному ребенку. Эта компромиссная точка зрения, в сущности говоря, не опровергает, а подтверждает Пиаже, подкрепляя его мысль о первичности аутистического мышления. Между тем нельзя не согласиться с Блейлером, который показал, что именно на примитивных ступенях развития исключена всякая возможность нереалистического мышления. Начиная с определенной ступени развития к изначальной реалистической функции присоединяется аутистическая и с этих пор развивается вместе с ней. Имбецил, говорит Блей- лер, является настоящим реальным политиком. У него аутистическое мышление упрощено так же, как и реалистическое. В последнее время К. Левин показал, что воображение - одно из самых ярких проявлений аутистического мышления - чрезвычайно недоразвито у умственно отсталых детей.
Из развития нормального ребенка известно, что и у него эта функция начинает развиваться сколько-нибудь заметно только с дошкольного возраста.
Мы думаем поэтому, что теория солипсизма должна быть не просто ограничена, но заменена противоположной, так как все приводимые в ее защиту факты получают истинное объяснение с противоположной точки зрения.
Так, В. Петерс показал, что в основе эгоцентрической речи и эгоцентрического мышления ребенка лежит не аутизм и не намеренная изоляция от общения, но нечто противоположное этому по психической структуре. Пиаже, который, по мнению Петерса, подчеркивает эгоцентризм детей и делает его краеугольным камнем объяснения своеобразия детской психики, должен все же установить, что дети говорят друг с другом и что один другого не слушает. Конечно, внешне они как бы не учитывают этого другого, но именно потому, что они сохранили еще до некоторой степени следы той непосредственной общности, которая в качестве доминирующей черты характеризовала в свое время их сознание.
В заключение мы хотели бы только показать, что факты, приводимые Пиаже, получают истинное объяснение в свете изложенного выше учения об основном новообразовании младенческого возраста. Пиаже, анализируя логические действия младенца, предвидит возражение, которое может вызвать его теория. Можно было бы подумать, пишет он, что младенец пользуется любым действием, чтобы получить любой результат, так как он просто полагает, что родители исполняют его желание. Согласно этой гипотезе, прием, употребляемый ребенком для того, чтобы воздействовать на вещи, составляет просто своего рода язык, употребляемый им в общении с близкими ему людьми. Это будет не магией, но просьбой. Так, мы можем констатировать, что ребенок в 1,5-2 года обращается к родителям, когда ему что-нибудь нужно, и говорит просто «пожалуйста», не заботясь о том, чтобы уточнить, чего он хочет; настолько он убежден, что все его желания родителям известны. Но если эта гипотеза становится вероятной для ребенка, уже начинающего говорить, то до этого времени она совершенно несостоятельна, по словам Пиаже. Одним из основных доводов против этой гипотезы, наилучшим доказательством того, что примитивное поведение не есть социальное, что поведение первого года невозможно считать социальным, Пиаже считает следующее обстоятельство: ребенок не отличает еще людей от вещей. Поэтому, считает Пиаже, в этом возрасте можно говорить только о солиптическом, но никак не о социальном поведении.
Однако, как мы видели, у ребенка уже на 2-м месяце появляются далее все развивающиеся и усложняющиеся специфические реакции социального характера (на человеческий голос, на выражение человеческого лица), активный поиск контакта с другим человеком и другие симптомы, бесспорно показывающие, что уже в. младенческом возрасте ребенок отличает людей от вещей.
Мы видели из опытов Фаянс, что отношение ребенка к предмету целиком определяется социальным содержанием ситуации, в которой дан этот предмет. Можно ли сказать о поведении ребенка в этих опытах, что он не отличает человека от вещи? Верна только та мысль Пиаже, что для младенца социальное и предметное содержание ситуации еще не дифференцировано. В отличие от ребенка 2 лет, владеющего речью, младенец не умеет дифференцировать просьбу к взрослому о помощи от непосредственного воздействия на предмет. Как мы видели в опытах с отдалением предмета, ребенок, бросивший уже тянуться к недостижимой цели, снова с прежней живостью возобновляет свои попытки, как только возле цели появляется человек. Правда, ребенок здесь обращается не к экспериментатору за помощью, а продолжает тянуться непосредственно к предмету, что и создает видимость магического поведения. Но эксперимент с несомненной ясностью показывает: эти по внешнему виду магические действия возникают у ребенка только под влиянием того, что в ситуации с недостижимой целью вдруг становится возможным обычный для ребенка путь через другого человека. Ребенок не осознает еще этого пути и не умеет им пользоваться намеренно, но только при наличии этого пути актуализируются его квази магические действия. Внимательный анализ опытов Пиаже показал бы также, что ребенок реагирует магическими действиями не на ситуацию с исчезнувшим предметом, а на ситуацию, центр которой составляет путь к предмету, пролегающий через отношения к другому человеку. Таким образом, солиптическое поведение младенца оказывается на самом деле социальным поведением, свойственным младенческому сознанию «пра-мы».
СОЛИПСИЗМ (от лат. solus – единственный и ipse – сам) – философская позиция, согласно которой несомненно данным является лишь собственный субъективный опыт, данные индивидуального сознания, а все, что считается существующим независимо от него (включая тело, мир внешних сознанию физических вещей, других людей), в действительности – лишь часть этого опыта. Точка зрения солипсизма выражает логику той субъектоцентристской установки, которая была принята в классической западной философии Нового времени после Декарта (см. Субъективное , Теория познания , Я ). Вместе с тем явное противоречие позиции с фактами обыденного здравого смысла и постулатами научного познания не позволяло большинству философов, придерживавшихся субъектоцентристской установки, делать выводы в духе солипсизма. Так, Декарт, выдвинувший тезис о том, что единственной самоочевидной истиной является утверждение «Я мыслю, следовательно, существую», с помощью онтологического доказательства утверждал существование Бога, который не может быть обманщиком и поэтому гарантирует реальность внешнего мира и других людей. Беркли, отождествляющий физические вещи с совокупностью ощущений, считал, что непрерывность существования вещей, т.е. невозможность их исчезновения тогда, когда они никем не воспринимаются, обеспечивается их постоянным восприятием Богом. С точки зрения Юма, хотя чисто теоретически невозможно доказать существование внешнего мира и других людей, необходимо верить в их реальность, ибо без такой веры практическая жизнь и познание невозможны. Согласно Канту, опыт является конструкцией Я. Но это не эмпирическое Я, а Я трансцендентальное, в котором в сущности стирается различие между мною и другими. Что касается Я эмпирического индивида, то его внутренний опыт (осознание состояний собственного сознания) предполагает опыт внешний (сознание независимых от индивидуального Я физических предметов и объективных событий).
Существует два способа понимания смысла солипсизма. Согласно первому, утверждение в качестве единственно реального моего личного опыта влечет также утверждение Я, которому этот опыт принадлежит. Такое понимание совместимо с тезисами Декарта и Беркли. Согласно другому пониманию, хотя единственно несомненным является мой личный опыт, не существует того Я, к которому этот опыт относится, ибо Я – не что иное, как совокупность элементов этого же опыта. Парадоксальность такого понимания солипсизма хорошо выразил Л.Витгенштейн в «Логико-философском трактате», связав это понимание, правда, не с несомненной данностью моего чувственного опыта в виде ощущений (как это было у Юма и Маха), а с данностью мне моего языка и фактов описываемых этим языком. С одной стороны, подчеркивает Витгенштейн, я есть мой мир, с другой стороны, «субъект не принадлежит миру, а представляет собой некую границу мира» (Витгенштейн Л. Философские работы, ч. 1. М., 1994, с. 56). «То, что солипсизм подразумевает, совершенно правильно, – считает он, – только это не может быть сказано, но оно обнаруживает себя» (там же). Поэтому «...строго проведенный солипсизм совпадает с чистым реализмом. «Я» солипсизма сжимается до непротяженной точки, остается же соотнесенная с ним реальность» (там же, с. 57). В действительности последовательно проведенная точка зрения солипсизма, отождествляющая с реальным только то, что непосредственно дано в моем опыте, не позволяет считать реальными даже прошлые факты моего сознания, т.е. делает невозможным также и непрерывность моего сознания (см. Рассел Б. Человеческое познание. М., 1957, с. 208–214).
Некоторые представители современной когнитивной психологии (Дж.Фодор и др.) считают, что т.н. методологический солипсизм должен быть главной стратегией исследований в этой науке. Имеется в виду точка зрения, согласно которой изучение психологических процессов предполагает их анализ вне отношения к событиям внешнего мира и другим людям. Это, конечно, не солипсизм в его классическом философском понимании, ибо не отрицается существование внешнего мира, а психические процессы, факты сознания связываются с деятельностью головного мозга, существующего как материальное образование в пространстве и времени. Многие философы и психологи (напр., X.Патнэм, Д.Деннет и др.) считают, что точка зрения методологического солипсизма является тупиковой, т.к. невозможно понять сознание и психику вне отношения к внешнему миру и миру межчеловеческих взаимодействий.
В современной философии все более утверждается точка зрения, согласно которой внутренний мир индивидуального сознания, включая Я, возможен лишь в результате коммуникаций субъекта с другими людьми в реальном физическом мире. Позиция солипсизма могла казаться логически возможной лишь в рамках субъектоцентристской установки классической философии, от которой современная философия отказывается. О невозможности чисто внутреннего опыта и несостоятельности позиции солипсизма Л.Витгенштейн писал в поздних работах. М.М.Бахтин уже с 1920-х гг. показал, что если человек рассматривает себя вне отношения к другим, то с точки зрения самопереживания солипсизм может показаться убедительным, но мы принципиально не можем согласиться с тем же солипсизмом, предлагаемым от имени другого человека. Именно отношение к другому конституирует реальное переживание Я, а не то, из которого исходила философская традиция. См. ст. Сознание , Самосознание , Я и лит. к ним.
В.А.Лекторский